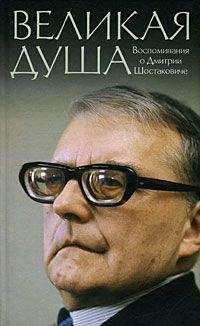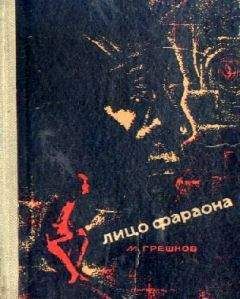Ваан Тотовенц - Жизнь на старой римской дороге
Зарешеченное окно — за несколько дверей от нас — принадлежит служителю культа, магометанину. По пятницам он здоровается только с магометанами и не отвечает на приветствия христиан.
Но и по пятницам та же рука, нежная, как утренний жасмин, роняет мне под ноги цветок.
Из окна, забранного решеткой, иногда доносится робкий смех, приглушенный крик радости.
Это — третья жена служителя культа, совсем еще юная, сидит дома, как птица в клетке.
Такая на душу легла тоска! Хочу увидеть ее, поговорить с ней.
Поднимаю с земли цветок, уношу домой и вдыхаю, вдыхаю его аромат. И передается мне от этого цветка незнаемая дрожь, неведомый трепет.
Служителю культа за шестьдесят, он горбатый, злой, желтоглазый, бреет худое скуластое лицо, холит бородку, красит ее хной. Выходя из дому, каждый раз наказывает своим старшим женам — глаз не сводить с Бахреи, не подпускать ее к окну.
Но Бахреи, захваченной весной, удается, улучив момент, подойти к окну и даже высунуть руку и бросить цветок.
А как-то раз она мне шепнула:
— Завтра сойди в сад, старухи уйдут.
Этот голос пробудил во мне мужчину…
Я слышал слова Бахреи и пошел своей дорогой, но готов был поклясться, что она вырвала у меня сердце и унесла с собой за решетку. Я ушел, но голос ее все еще звучал в моих ушах.
Остановился я в тени какого-то дерева, посмотрел на узорные блики солнца на земле — увидел Бахреи, вслушался в шелест листвы — услышал Бахреи:
— Завтра сойди в сад…
Ночью поднялся на крышу дома, луна была прямо над крышей. Луна ли? Нет, лицо Бахреи — улыбающееся, с большими черными глазами.
Утром забрался на стену нашего сада, спрыгнул в, соседский, весть вымок в росе, а до Бахреи еще три сада…
И вот я там, куда звала меня она.
Я под цветущим гранатом, поодаль — куст сирени, он заслоняет меня, по Бахреи уже бежит, бежит ко мне. Подбежала, запыхалась. Обнял я ее, опьянел от ее запаха…
— Пошли, — говорит, — пошли в дом.
Служитель культа отправился чуть свет с двумя женами в Старый город, там шел суд из-за наследства. Заперли входную дверь: уверенные, что Бахреи из дому не выйти.
Взяв за руки, Бахреи повела меня в спальню. Обнимает, плачет, улыбается, целует… Страх и восторг овладели мной. Бахреи — первая моя женщина… И вдруг она заплакала.
— Вечером они вернутся.
Я попрощался с Бахреи у цветущего граната, сорвал ой красный цветок и долго целовал ей руки.
Спрыгнув со стены сада, я расстался с первой в моей жизни женщиной.
Расстался навсегда.
* * *На следующий день я встретил Веронику — двоюродную сестру Христины. Вероника была небесным созданием: светлоглазая, легкая, как лань. Каждый раз при встрече с Вероникой душа моя рвалась к ней, но теперь, теперь мою душу покрывала краска стыда.
Я взял ее за руки и вдруг заплакал. Хочу открыться ей, но не могу — сам стою перед закрытыми дверьми своей души.
— Что-нибудь с мамой? — спрашиваем Вероника.
— Нет, мама здорова.
Конечно, она никак не может догадаться о случившемся. Она еще не сошла с голубых холмов невинности, и ей еще не понять моего преступления. Вероника никогда, никогда не могла представить себе, что какая-то женщина, позабыв стыд, дала мне ключ к свято хранимым сокровищам своего тела.
Уходим в глубь сада. Под ногами шуршит трава, с деревьев свисают плоды. Решаю: как дойдем до тутовника, признаюсь в своем преступлении. Но Вероника начинает вдруг прыгать и кричать: «Лови меня!» Бегу за ней, не очень-то о стараюсь поймать ее, ловлю наконец, и… наши губы сливаются в поцелуе. Пока мы целуемся, листья на деревьях бьют в ладоши, а плоды рассыпают золотой звон.
— Верон…
Оборачиваемся. Это Христина. Она дрожит всем телом. Еле шевелит губами:
— Бено может прийти.
— И пусть приходит, — говорит Вероника и, вскинув руки, срывает с ветки плод.
Бено — брат Вероники и мой однокашник. И вовсе не от страха дрожит Христиана: она дрожит от того, что увидела, как мы целовались.
И Бено пришел. Мы вместе взобрались на тутовник. Солнце высушило тугу, и она стала еще слаще.
…Померк бирюзовый купол неба и над головой Вероники: подул смертоносный ветер пустыни, тело ее замело песком…
Только ранняя звезда уронила несколько слез, и над ней опустилась кровавая ночь.
* * *Утро. Серое, мрачное небо, всю ночь сыпал снег, и земля покрыта белыми лилиями.
Зажав под мышкой сумку, выбегаю из дому, — спешу в школу. Собаки приветствуют мое утро.
Вижу — люди идут быстро, молча, заняты своими мыслями. На углу улицы стоит женщина, в глазах ее то же молчание, молчание бездонное, бескрайнее.
И такое вокруг царит безмолвие, точно снег — не снег, а саван. Инстинктивно чувствую что-то неладное. В меня вселяется страх, страх этот растет с каждым моим шагом.
Таинственно задергивается занавеска в одном окне, словно там не хотят впускать к себе свет наступающего дня. Кто-то открывает дверь, испуганными глазами оглядывает сверху вниз улицу.
Встречаю Григора-агу. Человек он медлительный, но тоже спешит.
— Ты куда? — спрашивает.
— В школу.
Хочет сказать еще что-то, по, махнув рукой, проходит. Кажется, бежит этот медлительный, как вол, человек, кажется, убегает от надвигающейся беды.
Со стороны большой городской площади идет группа съежившихся людей. Быстро проносятся мимо меня и они.
Почти все магазины на замке. Хотя не воскресенье и не пятница. Заглядываю в окна через закрытые ставни первых этажей. Вижу — люди забились в углы, сжались, молчат, только курят. Вот один поднял глаза на меня, улыбнулся сочувственно.
Чем ближе подхожу к большой площади, тем напряженней тишина на улицах.
Выскакивает из дверей женщина, непричесанная, в ночном халате, хватает мальчугана, волочит его в дом и запирает дверь.
Выхожу на площадь.
На белой-белой ее глади — черное пятно, вокруг него стоят четыре солдата с поблескивающими штыками. Один за другим подходят к этому пятну объятые ужасом люди, останавливаются, закрывают глаза и молча отходят.
Подхожу.
Вижу — лежит человеческая голова. На снегу — кровь, застывшая, запекшаяся. Поворачиваюсь, — распластавши руки, лежит в снегу человек без головы.
Замираю, стою как вкопанный. Один из солдат приказывает:
— Убирайся!
Отхожу.
…В тот день на рассвете султанская тирания обезглавила двух революционеров. Одного здесь, другого — на Верхней площади.
Впервые открылось мне истинное лицо жестокого деспотизма, ужасное лицо. Мне горестно, на душе тяжело.