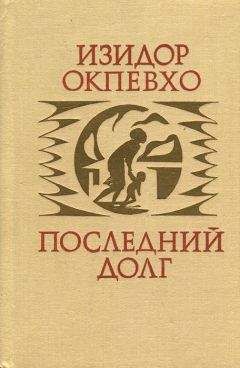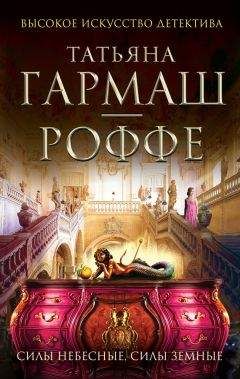Михаил Воронецкий - Мгновенье - целая жизнь
— Ну, с богом, паныч! С богом! — сказал он и стал махать метлою…
Пошел к Розалии. Рассказал о предупреждении дворника. Она помогла ему быстро разгрузиться.
— Надо немедленно скрыться и в квартиру ни под каким предлогом не возвращаться, — сказала Розалия.
— Я бы хотел предварительно переговорить с Григорием…
— Сегодня как раз Григорий вернулся. Если ты его непременно хочешь видеть, то иди к Беджицкой.
В тесном кабинете, спрятанном в одном из закоулков ресторана, Феликс нашел целую компанию: за круглым столом, сдвинувшись друг к другу лбами, сидели Станислав Куницкий, Людвик Янович, Станислав Пацановский и Бронислав Славиньский. Каждый из друзей на приход Кона отреагировал по-своему. Куницкий наклонился, достал свободный стул, втиснул его между собой и молчаливо-отрешенным Яновичем, сказал:
— Садись, друг. Ты очень кстати. Решаем сложнейшую задачу… В таком деле пятый голос совершенно необходим, иначе рискуем ни до чего не договориться: никак не получается большинства.
Стае Пацановский, величаво-снисходительно улыбнувшись, протянул руку из-за спины Куницкого, крепко, дружески сжал локоть Феликса. Сидевший напротив Славиньский приветствовал его едва уловимым кивком. Тщедушный и худосочный, ни днем ни ночью не расстающийся с кинжалом и револьвером, уложивший в перестрелке немало полицейских и жандармов и ни разу не попавшийся в руки, он деловито поедал одну за другой порции своего любимого пломбира. Людвик Янович медленно потягивал кофе.
Посредине стола стояли стаканы с остывшим чаем, на тарелке горкой лежало печенье, шоколад. Феликс почувствовал вдруг острый голод, не удержался, протянул руку за шоколадом, разжевал его, запивая холодным чаем. Пацановский, хотя и был ровесником Кона, но поглядывал на него с выражением благодушной снисходительности: мол, что с него взять — мальчишка, вчерашний гимназер, боится револьвера, как опасной игрушки. Он знал, что, в отличие от остальных ближайших сподвижников Куницкого, Феликс Кон никогда не носил с собой ни кинжала, ни револьвера.
— Понимаешь, — заговорил Куницкий, подождав, пока Феликс немного насытится, — никак не можем прийти к единому мнению: становиться этим рыцарям нелегалами или продолжать жить как прежде, пока не подойдет крайность… У нелегала трудная доля, други мои. Ну, а что ты нам скажешь? Как твое мнение, Стожек?
— О том же самом, — сказал Феликс, — я как раз хотел посоветоваться с тобой, Григорий.
— Что-нибудь произошло?
— Да. Меня только что предупредил наш дворник, что моей особой интересовался околоточный. Велел сообщить ему в участок, как только я вернусь домой.
Куницкий на минуту задумался, потом спросил:
— Ты догадался почиститься?
— Разумеется. Все собрал и перенес в другое место.
— Ну, тогда, я думаю, это не основание для перехода на нелегальное положение. Подумай сам, если бы за тобою возникло мало-мальски серьезное дело, жандармы не предложили бы околоточному делать глупости, а нагрянули бы ночью, как это у них обычно делается.
— А не разыгрывает ли охранка дурочку, — подал голос Янович, не отрываясь, впрочем, от соломинки, через которую все еще потягивал свой кофе. — Не надумала ли она поиграть в кошки-мышки?
— Едва ли. Да и что может Феликсу угрожать? Сам посуди… Арестованы люди абсолютно надежные. Нет никаких оснований думать, что опасность идет оттуда.
Все согласно молчали.
— Наверное, все дело в каком-нибудь письме, перехваченном полицией, — снова заговорил Куницкий. Он словно хотел успокоить не столько Кона, сколько себя. — Если и арестуют, продержат недельки две-три, не больше. Может быть, в Цитадели удастся снестись с Варыньским.
В конце концов решили, что Феликс не уходит пока в подполье. Он поднялся.
— Уже уходишь? — спросил Куницкий. Кон услыхал в голосе его какую-то особенную печаль.
— Пора, — сказал Феликс.
Куницкий поднялся, обнял за плечи, и они расцеловались…
Потом он долго бродил по улицам Варшавы, медленно отходившей ко сну. На тротуарах под липами и ясенями гуляли изысканно одетые варшавяне. На скамейках целовались на глазах у прохожих молодые люди. По булыжным мостовым, шелестя шинами, проносились пролетки с весело смеющимися женщинами, у ног которых картинно возлежали господа с лихо закрученными усами, в широкополых шляпах фирмы «Тоник». Обычная жизнь ночной Варшавы в середине лета. И конечно, никому из этих изящных господ даже на мгновение не приходила в голову мысль о том, что глубоко в подполье кипит другая, мало кому известная жизнь — тайная, бессонная, постоянно висящая на волоске…
Феликс долго колебался, перед тем, как свернуть на свою улицу. И лишь далеко за полночь, когда исчезли последние гуляющие на аллеях варшавяне, он спокойным шагом направился к своему дому.
Его схватили сразу же за углом. С приставом было несколько полицейских. Сопротивляться не стоило.
У ворот стоял все тот же дворник с ненужной в этот ночной час метлой. При свете фонаря было видно, как он укоризненно посмотрел на «паныча». Ведь предупредил же!
Едва открылась дверь, Феликс сразу узнал жандармского майора Секеринского, высокого, атлетически сложенного, с тупой жестокостью в выпуклых водянистых глазах. За ним — невысокого, по-спортивному поджарого, с сухим тонким лицом товарища прокурора Петербургского окружного суда Арсеньева. «Ого! — удивился Феликс, — видно, моей персоне придают большое значение, раз среди ночи такие важные фигуры!»
Он, разумеется, не знал, что недавно арестованный народоволец Марцелий Янчевский, который несколько раз ночевал у Кона, начал давать показания.
Куницкий был прав, против Феликса у жандармов особых улик не было. Но до того момента, когда начал «говорить» Янчевский. Те тайные донесения Барановского прокуратура не могла предъявить, не раскрывая своего агента.
Но Янчевский знал очень мало. Вернее, ничего не знал, кроме нескольких имен людей, имевших дело с Феликсом. Мало что знали арестованные по его доносу Выгановский и Загурский.
Феликс надеялся на то, что поводом к аресту послужил какой-нибудь нелепый случай.
— Ну, а как поживает ваша сестренка, молодой человок? — были первые слова, с которыми Секеринский обратился к Феликсу.
— Вы жe знаете, что она вернулась из Сибири.
— Конечно, знаю. Я это к тому, что бы вы знали, что не все оттуда так счастливо прибывают.
Обыск очень скоро закончился, и Секеринский сказал:
— Вы арестовываетесь по предписанию прокурора Петербургской судебной палаты…
А потом в арестантской карете его везли через весь город к северо-восточной его окраине, где на берегу Вислы возвышались стены Цитадели. Когда подъехали к этой печальной крепости, за утопающими в зелени усадьбами Желибожа небо уже посветлело. Наливалась розовато-белым светом ранняя июньская заря.