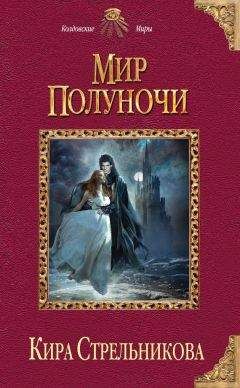Вячеслав Бондаренко - Вяземский
Вяземский посвятил жене одно из самых изящных (и очень «батюшковских» по стилю — сам Батюшков подробно разобрал эти стихи в письме) своих посланий «К подруге»:
От суетного круга,
Что прозван свет большой,
О милая подруга!
Укроемся со мной.
Простись с блестящим светом,
Приди с своим поэтом,
Приди под кров родной,
Под кров уединенный,
Где счастье неизменно
И дружбой крыл лишенно
Нас угостит с тобой!
И еще одно посвящение, на этот раз полусерьезное, каламбурное, как любил Вяземский:
Вольтера все бранят, что Бога он не знал,
Но осуждать его за это я не смею,
Пускай его бранят, а я об нем жалею —
Он Веры не видал.
…И вот, ни с того ни с сего — Вяземский женат. (А Тургенев, Жуковский, Батюшков, все старше его — холостяки.) К своему удивлению, он с радостью принял такую крупную перемену в жизни. К тому же Вера Федоровна обожала разделять с мужем его успехи в свете. Это был веселый, красивый и легкий союз двух молодых людей, любящих удовольствия.
Такими они и выглядят на портретах тех лет: прелестная юная княгиня с задорным взглядом и румяный, чуть улыбающийся молодой князь в полосатом халате, с беспечно развевающейся прядью над правым виском…
Жуковский обратился к молодожену с посланием:
Рад от души!
Да — напиши,
Что, мужем став,
Ты старый нрав
Сберег друзьям!
А Батюшков желал,
Чтобы любовь и Гименей
Вам дали целый рой детей,
Прелестных, резвых и пригожих,
Во всем на мать свою похожих,
И на отца — чуть-чуть умом,
А с рожи — Бог избавь!
Ты сам согласен в том!
«Бог избавь» — ибо красавцем Вяземского признать никак нельзя. «Курносым слепцом» величал он сам себя. Хотя на успех у дам близорукость и «курносие» никак не влияли…
Итак, Вяземский с удовольствием входил в роль мужа, но и «старый нрав сберег друзьям» — писал им многочисленные письма, и в прозе, и в стихах. Почти никого из «дружеской артели», проводившей веселые ночи близ Колымажного двора, в Москве не было. Жуковский все еще сидел в своем тульском селе, жил уединенно и много работал. В стихотворной форме (в цитированном выше послании «Мой милой друг…») он полушутливо-полусерьезно жаловался на плохое настроение и сообщал, что зимой — весной в Москве, увы, не появится. Батюшков, опутанный делами и долгами, тоже жил в деревне. Александр Тургенев, мелькнув в Москве на два месяца, укатил в Петербург. В Питере же были и другие друзья-приятели — Блудов, Дашков, Северин. Но Жуковского и Батюшкова князю особенно не хватало… Вяземский до последнего надеялся, что Батюшков приедет к нему на свадьбу: «Приезжай, приезжай, приезжай, приезжай, приезжай, приезжай — ей-Богу, не умею ничего сказать лучше». Но безденежный Батюшков застрял в своем Хантонове накрепко… В ноябре 1811 года у него из переписки с Вяземским выросло понемногу поэтическое послание «Мои Пенаты» — воспоминание о беспечных днях, проведенных вместе с друзьями. Радостные, изящные, словно акварелью написанные стихотворные портреты Жуковского и Вяземского в виде беспечных эпикурейцев не могли не пленять… Вяземский немного покритиковал «Пенаты» по мелочам, но в целом восхитился: «Браво! браво! стихи твои прекрасны!»… Друзья тут же отблагодарили Батюшкова в его же духе — и Жуковский, и Вяземский и тем же трехстопным ямбом написали свои обращения «К Батюшкову». Послание Жуковского Вяземский нашел «немного длинноватым» (это мягко сказано — в нем 664 строки) и к тому же посчитал, что легким эпикурейским «Пенатам» Жуковский противопоставил строгую свою мораль труженика-затворника: «Сличая оба послания, скажешь тотчас: любезные поэты верно часто видаться не будут!» Сохранился прозаический план огромного послания Жуковского: «К тебе в приют спешу — готовь вино, укрась цветами своих пенатов, с нами Вяземский и его милая подруга: он рано отошел от бурь и счастлив»…
Сам же Вяземский постарался сделать свои стихи такими же беспечными и элегантными, как батюшковские. Среди молодых поэтов быстро установился обычай править стихи друг друга, и это было отличной школой для всех троих…
Между тем беспечная, юная, поэтически-светская, «до-пожарная» эпоха в жизни Вяземского подходила к концу. 12 июня 1812 года армия Наполеона вторглась в пределы России. Правда, до Москвы вся важность происходящего дошла далеко не сразу: столица русского дворянства продолжала танцевать, обедать и сплетничать, как ни в чем не бывало, и 20-летие свое Вяземский отмечал еще вполне беспечно. Но появление в Москве Александра I, речь, которую он произнес в Слободском дворце 15 июля, и высочайший манифест о народном ополчении, изданный два дня спустя, даже самых аполитичных и космополитичных москвичей заставили встрепенуться. Выпускаемые генерал-губернатором графом Ростопчиным «афишки» кричали со стен о том, что ноги Бонапартовой в Первопрестольной не будет; известный журналист Сергей Глинка негодовал в «Русском вестнике» на галломанов и на собственные деньги снаряжал ополченцев… Самые прозорливые начали отправлять семьи и имущество в тыл. Казалось, в воздухе разлито какое-то общее волнение, готовое обернуться чем угодно — погромами или битвой с французами… В начале августа Вяземский с двумя друзьями спас от расправы какого-то немца, которого разъяренная уличная толпа приняла за французского шпиона…
Карамзин прежде всего позаботился о спасении трех копий рукописи «Истории», которая близилась к завершению. Один экземпляр он спрятал в архиве Коллегии иностранных дел (он и сгорел там), другой — в Остафьеве, третий отправил в Ярославль с женой и детьми. Впервые Карамзиным пришлось изменить своей клятве — никогда не расставаться… Сам Николай Михайлович всячески тянул с отъездом. В ополчение его не брали по состоянию здоровья, но он все же надеялся. «Обстоятельства таковы, что всякий может быть полезен или иметь эту надежду, — писал Карамзин Дмитриеву. — Обожаю подругу, люблю детей; но мне больно издали смотреть на происшествия решительные для нашего Отечества». Вяземский тем временем разрывался меж Москвой и Остафьевом — свез в имение мебель из дома, снимаемого в Большом Кисловском переулке, библиотеку. Веру Федоровну, ожидавшую ребенка, отправил с Карамзиными. Сам он ни минуты не раздумывал о своей участи: драться с врагом — долг каждого русского…
Его пытались отговорить — напоминали, что даже выстрела пистолетного он никогда прежде не слыхивал, что жена беременна… Но куда там! Перед глазами были примеры друзей. Денис Давыдов, Павел Киселев, Батюшков — все офицеры. Дмитриев, Нелединский в свое время служили. Карамзин носил когда-то Преображенский мундир, даже воплощение миролюбия, Жуковский, успел пощеголять в ботфортах и треуголке… О чем же тут говорить?