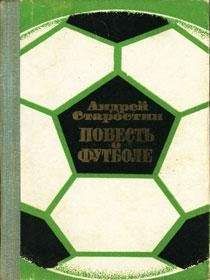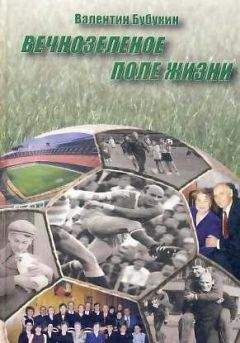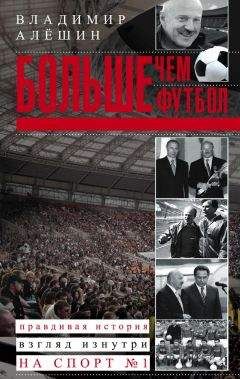Вольфганг Ганс Путлиц - По пути в Германию (воспоминания бывшего дипломата)
— Ради бога, — раздался в ответ оглушительный голос Экенера, — оставьте меня в покое, пока я не прикреплю цеппелин к мачте.
Фрау Кип так и не удалось избавиться от своих роз. [80]
Подобные сцены, вызывавшие у нас прилив патриотических чувств, я часто наблюдал на протяжении этих лет в США: прибытие в нью-йоркскую гавань под рев всех сирен «Бремена», завоевавшего голубую ленту за самый быстрый переход через Атлантический океан; триумфальная поездка немецких летчиков Кёля и Хюнефельда, пересекших океан, по Бродвею, на котором бушевала снежная метель конфетти; победа боксера Макса Шмелинга, завоевавшего звание чемпиона мира в Медисон-сквер-гарден; премьера Марлен Дитрих в «Голубом ангеле»; прием Альберта Эйнштейна в Белом доме; гастроли немецкого театра под руководством Макса Рейнгарта; торжественное представление в «Метрополитен-опера» с Лотой Леман в роли маршальши в оперетте «Кавалер роз» или Элизабет Шуман в «Свадьбе Фигаро»; выступление Берлинской филармонии под руководством Фуртвенглера в «Карнеги-холл»; вечер в посольстве, на котором Шлюскус исполнял произведения Рихарда Штрауса. Ни одна книга не имела тогда большего успеха, чем «На западе без перемен» Эриха-Марии Ремарка. Огромным успехом пользовались даже мелодии наших боевиков вроде «Я потерял свое сердце в Гейдельберге» или «Я целую вашу руку, мадам».
Германия и успехи немцев были постоянной темой для разговоров среди пораженной американской общественности.
Враждебность — результат мировой войны — исчезла, и барометр настроений в пользу Германии постоянно поднимался. У нас не было необходимости вести изощренную или лживую пропаганду. Нам удалось окончательно разделаться с эпохой кирасирских шлемов и потсдамских моноклей. По крайней мере мы верили в это так же, как и в то, что стали миролюбивыми, полезными членами цивилизованного сообщества народов.
Посол — дворянин и демократНашего посла — преемника фон Мальтцана — фон Притвица нельзя было отнести к числу гениев, зато он был уравновешенным человеком. Его буржуазно-демократические взгляды покоились на убеждениях. Как и я, он служил в свое время в гвардейской кавалерии и порвал с черно-бело-красным окружением не без серьезной внутренней и внешней борьбы. Штреземану пришлось преодолеть определенное сопротивление, прежде чем ему удалось назначить на важный пост посла в Вашингтоне дворянско-демократического ренегата, учитывая при этом и то, что ему было только сорок два года и по служебному рангу он не мог претендовать на такую должность.
Меня влекло к Притвицу, так как я был уверен, что он с его опытом может многому научить меня. [81]
Однажды в один из рождественских вечеров он, его жена и я сидели одни в большом салоне посольства. Я использовал обстановку, чтобы выяснить некоторые интересовавшие меня вопросы.
— Господин посол, — спросил я напрямик, — как это получилось, что вы, в прошлом гвардейский кирасир, то есть выходец из полка с еще более строгими монархическими традициями, чем мой полк, стали таким убежденным защитником черно-красно-золотого флага?
На минуту он задумался:
— Видите ли, Путленок. Как бы вам это объяснить? Дело в том, что я не только сидел в офицерском казино, но и пытался выйти за его рамки. С тысяча девятьсот шестнадцатого года до конца войны я был прикомандирован в качестве офицера-ординарца к имперской канцелярии и служил там при четырех канцлерах: Бетман-Гольвеге, Михаэли, Гертинге и Максе Баденском. Поверьте мне, я имел достаточно возможностей убедиться, какую безответственную игру вел с немецким народом кайзеровский режим. Уже в шестнадцатом году во всей имперской канцелярии не было даже самого мелкого служащего, который бы точно не знал, что война окончательно проиграна. Каждый день затяжки войны означал бесполезное убийство тысяч немецких солдат. И в то же время ни у кого не хватило смелости оказать сопротивление авантюристическим планам верховного командования армии, и прежде всего Людендорфу, охваченному манией величия. Если бы мы рассказали кому-нибудь постороннему о действительном положении, мы были бы преданы за пораженчество военному суду. Все это тянулось до тех пор, пока военное командование полностью не расписалось в своем бессилии и не бросило карты. Миллионы людей были вынуждены умирать лишь потому, что тогдашние владыки империи не имели совести и не хотели рисковать, опасаясь за собственную шкуру или за свой пост. Разве это не самое страшное преступление в истории человечества? Может быть, вы поймете теперь, почему я не могу видеть эти черно-бело-красные цвета.
В качестве представителя Германии Притвиц подписал пакт Келлога, осуждающий войну. Я уверен, что никто не мог сделать этого с более чистой совестью. [82]
Кроме того, Притвиц был единственным из руководителей наших миссий, который немедленно после прихода Гитлера к власти направил в Берлин заявление об отставке и ушел в частную жизнь.
КатастрофаВ 1929 году я нашел своему младшему брату Вальтеру место ученика на одной из самых современных ферм сельскохозяйственного Среднего Запада в штате Миссури. Осенью перед его возвращением в Германию мы провели с ним несколько дней в Нью-Йорке. Просмотрев на Бродвее чудесное представление знаменитого негритянского ревю «Черная птица», мы бродили по темным улицам, любуясь гротескными тенями небоскребов: мерцающий свет реклам делал их похожими на кубистические картины. Пересекая Пятую авеню, мы услышали впереди громкие крики продавцов экстренных выпусков газет: «Штреземан убит», «Сенсация в германском министерстве иностранных дел!», «Удар по делу мира во всем мире!».
— Какой ужас! — озабоченно воскликнул Вальтер.
Да! — Это было все, что я ему ответил.
Я не мог точно объяснить себе почему, но инстинкт подсказывал мне, что дни многообещающих надежд приходят к концу.
Забыты были бодрые негритянские мелодии, которые еще несколько минут назад звучали в голове. Молча вернулись мы в отель. Администратор, урожденный немец, услышавший от нас эту новость, испуганно спросил:
— Что же теперь будет с Германией? Кто придет в Берлине к власти?
Спустя несколько недель пришла другая беда — «черная пятница». Неожиданно почти для всех произошел крах на нью-йоркской бирже: курсы упали до уровня, какого еще не знала история. До этого дня считалось чуть ли не богохульством, если кто-нибудь осмеливался хотя бы намекнуть, что «экономическое чудо» в избранной богом стране может когда-нибудь иметь конец.
Паника была неописуемой.
Один из моих коллег составил путем спекуляций на бирже довольно значительное для него состояние. Обычно он совершал свои операции в вашингтонском отеле «Мейфлауэр», где помещалось фешенебельное бюро одной из крупнейших маклерских фирм. [83] Я часто сопровождал его туда и наблюдал за световым экраном, на котором сменяли друг друга самые последние курсы нью-йоркской биржи. Эти дни он постоянно проводил там, сидя в мягком кресле среди спекулянтов и наблюдая за изменением курсов. Как человек в финансовом отношении не заинтересованный, я следил в первую очередь за лицами заядлых финансистов. Они сидели, как на похоронах, впиваясь взглядом в меняющиеся цифры, которые сообщали им, что за последние пять минут они стали беднее на тысячи или сотни тысяч долларов.