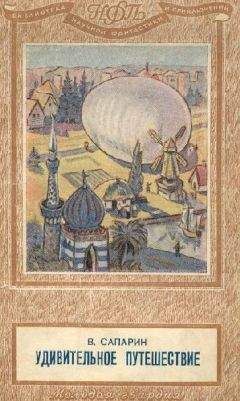Виктор Шендерович - Изюм из булки
Эрреро метал нож в стены нижнего склада, раз за разом всаживая в дерево тяжелую сталь. Душу его сосала ненависть, и смерть опоссума не утолила ее.
Рамирес растаскивал в стороны гнилые доски. Нежданный праздник закончился. Впереди лежала серая дорога службы, разделенная светлыми вешками завтраков, обедов, ужинов и сна, в котором он был горд, спокоен и свободен.
Глиста укатывал к свалке ржавые баки из-под воды. Его подташнивало от увиденного. Он презирал себя и ненавидел людей, с которыми свела его судьба на этом огороженном пятачке между гор.
Лейтенант Пенья, взяв свою дозу, лежал, истекая потом, на постели и презрительно глядел в потолок.
Старшина Мендес дремал на койке за занавеской. Голые коричневые ноги укрывала шинель. Приближадся обед. Солнце, намертво вставшее над горами, припекало стенку, исцарапанную датами и названиями индейских поселков. До дембеля оставался; месяц, потому что полковник Кобос обещал отпустить «стариков» в первые же дни.
А опоссума, попинав для верности носком сапога, Лопес вынес, держа за хвост, и, поднявшись в поселок, положил посреди дороги, потому что был веселый человек.
1983-1999*.
* Хулио Сакраментес — псевдоним. Свое истинное имя молодой латиноамериканский автор вынужден скрывать, поскольку у власти в Гондурасе по-прежнему находится военщина.
** Рассказ «Опоссум» был опубликован в журнале «Иностранная литература» (№ 2, 2000).
Автобиограффити
«Жаль, что вас не было с нами…»
За пару дней до демобилизации я стоял в Чите возле киоска «Союзпечати» — в сильном и приятном недоумении. В киоске, в свободной и легальной продаже, лежала пластинка с рассказом Василия Аксенова в исполнении автора.
На дворе стоял май 1982 года. Аксенов уже несколько лет был беглецом и вражьим голосом. Из московских магазинов давно исчезли его книги, его повести аккуратно выдирались из библиотечных подшивок… А в Чите, в сотне метров от обкома, продавалась эта пластинка.
Не дошла до этих мест политинформация со Старой площади. То ли чересчур большая страна, то ли слишком тяжелый маразм.
Здесь было бы элегантным сказать: уже тогда, стоя у киоска «Союзпечати», я почувствовал — советские времена на исходе. Но ничего такого я не почувствовал. Только приятный холодок в животе.
Аксенова к тому времени я видел только однажды: незадолго до своего отъезда в Америку он заходил к нам на Стопани, чтобы повидаться с Табаковым… Все это было в прошлой жизни. Какой будет моя новая жизнь, я, стоя у того киоска, совершенно не представлял.
Назад в будущее
Домой из Читы я вернулся странным маршрутом — через Казахстан. Не дождавшись самолета на Москву и не в силах более съесть ни одной «пайки», я полетел спецрейсом в Павлодар и уже оттуда, андижанским поездом, добирался до Казанского вокзала.
Психическая реабилитации после встречи с Советской армией проходила медленно. По целым дням я лежал на диване и слушал Второй концерт Рахманинова, Что-то есть в этой музыке, отчего хочется жить и за что не жалко умереть.
Но умереть не умереть (для самоубийства я человек чересчур легкомысленный), а жить мне в ту пору не хотелось. Вернувшись, я не застал ни своей девушки, ни студии Табакова, которую благополучно придушила фирма «Демичев и Ко». Пытаясь нащупать хоть какой-то сюжет для последующей жизни, я начал встречаться с хорошими людьми из жизни прошлой. Зашел к Константину Рай-кину: он к тому времени убыл из «Современника» и работал у папы.
Мы договорились встретиться после спектакля; Костя вышел под руку с Аркадием Исааковичем — и я вторично, спустя семь лет, был представлен корифею. Костя напомнил папе про свой спектакль «Маугли», в котором тот мог меня видеть.
Райкин-старший вгляделся в меня и через паузу сказал:
— Я помню.
Разумеется, он меня не помнил, не с чего ему было меня помнить, но эта мастерски исполненная пауза сделала узнавание таким достоверным, что я почувствовал себя старым добрым знакомым Аркадия Исааковича.
Потом он пожал мне руку. Эту руку спустя пару часов я продемонстрировал родителям, предупредив, что мыть ее не буду никогда.
«Смешно…»
Костя делал в «Сатириконе» свой первый спектакль, и вскоре я познакомился с молодым драматургом Мишиным — его пьесу «Лица» как раз и должны были ставить.
На читку этой пьесы труппе я пришел в знакомый до сердечного нытья Бауманский Дворец пионеров. Кого только не видел этот Дворец — в тот день он дождался Аркадия Райкина: судьбу постановки, как и судьбу всего и всех в своем театре, решал, разумеется, лично Аркадий Исаакович.
Очень симпатичную пьесу Мишина читал Райкин-младший — автор сидел рядом, красный и напряженный. В нескольких метрах от него с неподвижным лицом сидел Аркадий Исаакович.
Меня бы на месте Мишина просто хватил кондратий.
Труппа смеялась до упаду; Райкин-старший слушал, как слушают панихиду. Он был строг и печален. Только в одном месте, когда хохот стал обвальным, Аркадий Исаакович приподнял бровь, прислушался к себе и тихо (и несколько удивленно) констатировал:
— Смешно.
Ноябрь-82
Работать после армии я пошел в городской Дворец пионеров. Это была попытка, вопреки Геродоту, войти вторично в ту же реку — правда, с другого берега… Теперь я был педагог.
И вот сидим мы как-то на общем комсомольском собрании, груши околачиваем, в трибуне бубнит чего-то наш освобожденный секретарь. Я играю в слова с милой девушкой из биологического кружка и размышляю, во что бы мне с нею поиграть дальше.
Тут дверь открывается, входит какой-то хрен и что-то шепчет секретарю. Тот прокашливается и говорит:
— Товарищи! Сегодня умер Леонид Ильич Брежнев.
Наступает тишина, но не трагическая, а какая-то технологическая. Все сидят и соображают, что в связи со всем этим следует делать. Ну, умер. Дальше-то что?
— Надо встать, что ли? — неуверенно произносит кто-то рядом. Помедлив, приподнимаем ненадолго зады.
— Садитесь, — говорит освобожденный секретарь. Опускаем зады. Ясно, что доиграть в слова уже не судьба. Собрание заканчивается.
Спустя пару дней вхожу в редакцию «Иностранной литературы»; в холле работает телевизор и рассказывает телевизор биографию товарища Андропова. Никому из слушающие от этого никакой радости, кроме одного человека. Этот человек спускается в холл сверху, со второго этажа редакции, с громогласным криком: