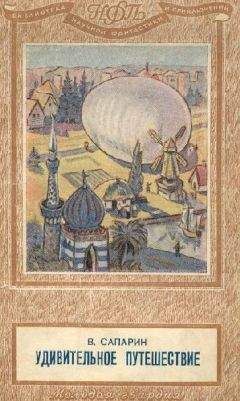Виктор Шендерович - Изюм из булки
За что я отдельно благодарен лейтенанту Седову, капитану Зарубенко, майору-артиллеристу и всем остальным бойцам невидимого фронта…
Крыса и опоссум
Всю юность я мучил литконсультантов стихами. Версификации эти были довольно вторичными: личный опыт отсутствовал начисто. За опытом я поехал в Забайкальский ордена Ленина военный округ и приобрел его там, пожалуй, даже чересчур — но насчет дозировки меня никто не спрашивал.
Когда я оклемался, ни о какой поэзии речи уже не шло — то, что я начал писать по возвращении «на гражданку», в восемьдесят третьем, было в чистом виде ябедой на действительность. Мне казалось важным рассказать о том, что я увидел. Я был уверен, что, если рассказать правду, что-то в мире существенно изменится.
Кстати, я уверен в этом и сейчас.
Рассказ, о котором пойдет речь, был чуть ли не первым из написанных мною армейских рассказов. Сюжет его прост. Перед самым моим дембелем личный состав армейского хлебозавода, где я дотягивал свой срок, поймал здоровенную крысу. Это событие изменило иерархию; крыса была ниже последнего салаги, и возможность безнаказанно замучить ее до смерти на целый день объединила всех, включая офицера, начальника хлебозавода.
За время службы я навидался всякого, но в этом эпизоде сошлось слишком много.
Спустя полгода я вынул из забайкальского апреля тот памятный день и положил его на лист бумаги. Я был молод, и следует снисходительно отнестись к моему желанию увидеть рассказ напечатанным.
В журнале «Юность» я получил на «Крысу» рецензию, которую считаю лучшей из возможных. Звучала рецензия так: «Очень хорошо, но вопрос о публикации не встает». По молодости лет я попытался получить объяснение обороту «не встает» и получил в ответ, что если встанет, то мне же хуже.
Засим мне было объяснено, что такое Главное политуправление.
Аналогичные разговоры со мной разговаривали и в других редакциях, а в одной прямо предложили этот рассказ спрятать и никому его не показывать. Но не убедили.
Тут я подхожу к самой сути истории.
В те годы я дружил с очаровательной девушкой. Ее звали Нора Киямова, она была переводчиком с датского и норвежского. По дружбе и, признаться, симпатии я давал ей читать кое-что из того, что писал. Дал прочесть и «Крысу».
— Слушай, — сказала Нора. — Хочешь, я покажу это Ланиной?
Ланина! Журнал «Иностранная литература»! Еще бы я не хотел…
Через неделю Нора сказала:
— Зайди, она хочет тебя видеть.
Я зашел в кабинет и увидел сурового вида даму. Несколько секунд она внимательно разглядывала меня из-за горы папок и рукописей. Мне было двадцать пять лет, и я весь состоял из амбиций и комплекса неполноценности.
— Я прочла ваш рассказ, — сказала Данина, — Хороший рассказ. Вы хотите увидеть его напечатанным?
— Да, — сказал я.
— В нашем журнале, — уточнила Ланина и поглядела на меня еще внимательнее.
— Но…
— Это будет ваш перевод.
— Как перевод? — спросил я. — С какого?
— С испанского, — без колебаний определила Ланина. — Найдем какого-нибудь студента из «Лумумбы»… Где у нас хунта? — перебила она сама себя.
— Гватемала, — сказал я, — Чили. Гондурас. Я был грамотный юноша.
— Вот, — обрадовалась Ланина, — Гондурас! Прекрасно! Переведем рассказ на испанский, оттуда обратно на русский. Солдаты гондурасской хунты затравили опоссума. Очень прогрессивный рассказ. Ваш авторизованный перевод.
Дорого я бы дал сейчас, чтобы посмотреть на выражение своего лица в тот момент.
— Ну? — спросила она. — Печатаем?
Я ответил, что никогда не бывал в Гондурасе. Я спросил, кто такой опоссум.
— Не все ли вам равно? — резонно поинтересовалась Ланина.
Я сказал, что мне не все равно, не говоря уже об опоссуме. Я забрал рукопись и ушел. Я был гордый дурень.
…В последний раз я пытался напечатать «Крысу» уже в 1992 году. Сказали: неактуально. Сказали: ведь в вашем рассказе речь идет о Советской армии, а теперь у нас создается новая, российская!
Конечно, конечно…
Спустя много лет я узнал, что Ланиной уже нет на свете. Я вспомнил ту нашу единственную встречу — и вдруг остро пожалел о неосуществленном переводе с испанского. Сейчас я думаю: может быть, Ланина просто шутила? Говорят, это было в ее стиле — вот так, без единой улыбки…
Но то она, а я? Почему я не ударил тогда по гондурасской военщине? Какая разница, Иван или Хуан? Как я мог пройти мимо этой блестящей игры?
…Когда я уходил из редакции, Ланина предложила мне не торопиться — и подумать. Что я и сделал.
Сделал, правда, спустя шестнадцать лет — но ведь лучше поздно, чем никогда. И потом, Татьяна Владимировна сама просила меня не торопиться с ответом.
Приложение
Светлой памяти Татьяны Ланиной
Хулио Сакраментес*. ОПОССУМ
Гарнизонные склады находились в стороне от остальных казарм.
Надо было идти полкилометра вдоль колючей проволоки по раскисшей дороге — тогда только появлялись наконец металлические ворота воинской части. В ту сторону никто из солдат не шел. Шли прямо через дорогу — к дыре, проделанной в проволоке еще при прежнем гаудильо.
Шли и направо — через пару минут пути — проволока кончалась, дорога уходила в горы, к индейскому поселку, где жила, переходя от призыва к призыву, утеха солдатских самоволок толстая Хуанита.
Впрочем, речь не о ней.
Старшина Мендес допил чай и поднялся. Тут же поднялись и остальные — и по одному вылезли из мазанки, служившей сразу складом маисовых лепешек, кухней и местом отдыха.
Рядом с мазанкой, похлопывая на ветру парусиной, лежала новая палатка. Старую палатку лейтенант Пенья приказал снять и сдать на списание до обеда.
Ее прожженный верх подпирали пыльные столбы света. Палатка стояла тут много лет.
— Можно? — спросил Глиста (когда-то мама назвала его Диего, но в армии имя не прижилось).
— Мочи, — сказал старшина Мендес.
Через пару минут, выбитая сержантской ногой, упала последняя штанга, и палатка тяжело легла на землю.
— Л-ловко мы ее! — Рядовой Рамирес попытался улыбнуться всем сразу, но у него не получилось.
— Вперед давай, — выразил общую старослужащую мысль Лопес, призванный в гондурасскую армию из горных районов. — Разговоры. Терпеть ненавижу.
Через полчаса палатка уже лежала за складом, готовая к списанию. На ее месте дожидались своей очереди гнилые доски настила и баки из-под воды.
Старшина Мендес, прикрыв веки, лежал за занавеской, спасавшей от москитов. Он думал о том, что до дембеля осталось никак не больше месяца; что полковник Кобос обещал отпустить «стариков» сразу после приказа, и теперь главное было, чтобы штабной капитанишко Франсиско Нуньес не сунул палки в колеса. С Нуньесом он был на ножах еще с ноября: на светлый праздник Гондурасской революции штабист заказал себе филе тунца, а Мендес, при том складе сидевший, ему не дал. Не из принципа не дал, а просто — не было уже в природе того тунца: до Нуньеса на складе рыбачили гарнизонные прапорщики…