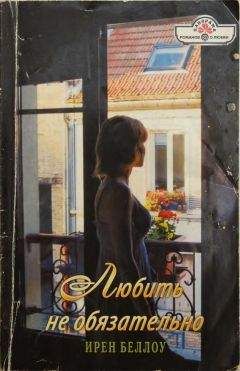Маргарет Сэлинджер - Над пропастью во сне: Мой отец Дж. Д. Сэлинджер
То, как изменился почерк отца в письмах (я читала их и Библиотеке конгресса), которые он слал друзьям и родным в Штаты после выхода из нюрнбергского госпиталя, на самом деле пугает. Его почерк, столь же для меня родной и знакомый, как его лицо, становится совершенно неузнаваемым.
Друг сержанта Икса, капрал Зет, который, как Джон Кинан для отца, всю войну «был его напарником по джипу», входит в комнату. Он замечает, что у Икса трясутся руки и дергается лицо. Рассказывает, что написал домой своей девушке, которая «специализируется по психологии», и сообщил, что у Икса нервное расстройство.
«Знаешь, что она говорит? Так, говорит, не бывает, чтобы нервное расстройство началось вот так, вдруг — просто от войны, и вообще. Говорит, ты, наверно, всю свою дурацкую жизнь был слабонервным».
Икс приставил ладонь козырьком ко лбу — лампа над кроватью ослепляла его — и заметил, что свойственная Лоретте проницательность неизменно приводит его в восторг».
Потом, оставшись один, думает, что «если он напишет одному своему старому нью-йоркскому приятелю, то, может быть, ему тут же полегчает, хотя бы немного», но пальцы у него так дрожат, что он не может вставить бумагу в пишущую машинку. Он знает, что нужно вынести из комнаты мусорную корзинку с блевотиной, но вместо этого опускает голову на руки и закрывает глаза, хотя не может заснуть. Через «несколько минут, наполненных пульсирующей болью», открывает глаза и замечает нераспечатанную посылку. Посылку послала Эсме, девочка, которую он встретил в Англии. В ней — милое, простое письмо, похожее на письмо Мэтти к Бэйбу или бельгийской девчонки к «семье Билла». Рассказ заканчивается так:
«И опять он долго сидел без движения, просто держа часы в руке. Потом внезапно, как ощущение счастья, пришла блаженная сонливость.
Перед тобою, Эсме, сонный-сонный человек, и у такого безусловно есть надежда вновь обрести с пособность функ-ф-у-н-к-ц-и-о-н-и-р-о-в-а-т-ь нормально».
4
Функционировать отдельно
Дикие ночи — дикие ночи!
Будь я с тобой,
Дикие ночи настали бы,
Роскошествуя тьмой!
Хрупкие ветры
В сердце, как в порт,
Без руля и карты —
Во весь опор!
Море бушует —
Только в раю
На якорь в тебе этой ночью
Нынче же стать я пою! [91]
То, как отцу еще до моего рождения удалось встать на якорь в тихой гавани и завести туда своих героев; то, как вырвался он сам и вырвал их из ада, «страдания о том, что нельзя уже более любить» — больше всего интересуют меня, и как его дочь, и как человека, который на себе испытал, что бывает, когда все в голове путается, и она «теряет устойчивость и мотается из стороны в сторону, как незакрепленный чемодан на багажной полке». Как и когда отец и его герои преодолели кризис и восстановили связь или, наоборот, заперли дверь, — вот что стало объектом моего пристального внимания. Как пережил мой отец истинные, не придуманные травмы, нанесенные войной, антисемитизмом, семейными отношениями; череда страданий и попытки найти решение в жизни и в творчестве — во всем этом я начала видеть знакомые черты.
Я обнаружила, что в реальной жизни сержант Сэлинджер не получил возвращающего к жизни письма; юная девушка не подала ему руки, не помогла выбраться из ада. Вместо того он, как и сержант Икс, встретил молодую женщину; как и в рассказе, она занимала «какую-то маленькую должность в нацистской партии, достаточно, впрочем, высокую, чтобы оказаться в числе тех, кто по приказу американского командования автоматически подлежал аресту». Сержант Сэлинджер сам ее арестовал. К концу лета они поженились.
Если иметь в виду, что отец был человеком ответственным и честным, а кроме того, глубоко подозрительным — он был словно создан для того, чтобы вести допрос, — Сильвия, его первая жена, была, вероятно, что подтверждала и моя мать, необыкновенной женщиной. Тетушка описала мне Сильвию: высокая, тонкая, темноволосая, с бледным лицом и кроваво-красными губами и ногтями. Речь ее была колкой, язвительной; она имела какую-то ученую степень. «Настоящая немка», — сказала тетушка и, опустив подбородок и подняв брови, мрачно взглянула мне прямо в глаза поверх бифокальных очков, желая особо подчеркнуть эту свою мысль. Отец твердил моей матери, что Сильвия, не в пример ей, Клэр, была настоящей женщиной, которая знала, чего хочет, и смолоду пробивала себе дорогу. Но ему претили ее ужасные, темные, злые страсти: он считал, что Сильвия околдовала его. Он признавался матери, что Сильвия ненавидела евреев так же сильно, как и нацистов, и не скрывала этого. Их отношения, говорил он, отличались большим накалом как в физическом, так и в эмоциональном плане. Как случалось во многих браках, заключенных во время войны, их страсть не пережила переезда в Америку, где пришлось жить вместе с его родителями. Сильвия вернулась в Европу через несколько месяцев. Тетя Дорис заметила: «Мама не любила ее».
Я знала, что у отца была военная жена, которую он в шутку называл «Саливой» вместо Сильвии, но вообще он не любил распространяться о возвращении домой, лишь ронял время от времени отдельные, скупые детали: например, как он жестоко страдал в то время от сенной лихорадки и целое лето не отнимал платка от отчаянно свербившего носа и слезящихся глаз. «Вот как сейчас, только еще хуже», — говорил он мне, сморкаясь и вытирая покрасневшие глаза. Похожие чувства, если не детали, появляются в рассказе «Посторонний» («Коллиерс», 1 декабря 1945 года), где рассказывается о возвращении домой Бэйба. Бэйб жестоко страдает от сенной лихорадки и боевого переутомления. Он вернулся домой физически, но умственно и эмоционально не может совершить переход к гражданской жизни.
Не нужно быть дипломированным преподавателем поэтики, чтобы поэзия этого рассказа глубоко затронула вас. Отец пользуется тем же языком, что и Басё в своем хокку о лягушке[92], — слов немного, но образ разворачивается, проявляется для ума и всех пяти чувств, как яркий бумажный цветок, спрятанный в раковине, вроде тех, которыми мы забавлялись в детстве — бросишь такую со всплеском в стакан с водой, она раскроется, а цветок поднимется и расцветет, наполнив весь стакан.
Друг Бэйба, Винсент Колфилд, убит в бою. Зато Бэйб вернулся домой живым и собирается пойти к девушке Винсента, отдать стихотворение, которое Винсент ей написал, и рассказать, как он умер. Сестра Бэйба Мэтти, которой все еще десять лет, как и в рассказе «День перед прощанием», хотя с тех пор, как Бэйб ушел на войну, немало времени утекло, его сопровождает. Бэйб, стоя перед дверью девушки Винсента, думает, что лучше было бы вовсе не приходить.