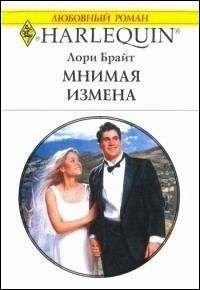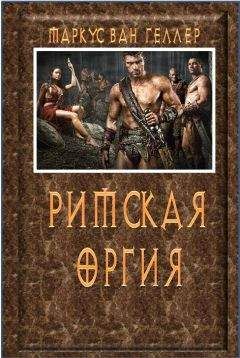Николай Морозов - Повести моей жизни. Том 2
Не знаю, не слишком ли я предаюсь оптимизму, думая, что если б ваша просьба министру о позволении передать брату эти мои работы была написана не в позапрошлом году, а в этом, то она, может быть, имела бы более успеха. Таких тяжелых для меня лет, какими были два прошлых года (до самого лета 1904), я уже давно не знал, да ты и сама, верно, заметила это по тону моих последних писем. Посмотрим, что-то принесет нам этот год! Более всего хотелось бы мне, конечно, получить какой-нибудь отзыв о посланных мною работах, а затем хотелось бы особенно, чтоб вместо обратного возвращения ко мне их передали брату. Если представится случай, то непременно буду просить об этом министра, а также и о передаче брату других моих работ, которые бесполезно лежат у меня теперь уже много лет.
Присланную тобою фотографию мамы с Александром Николаевичем я получил в этот раз без всяких затруднений и даже вообразил себе, не знаю почему, а как-то так, по общему неуловимому впечатлению, что, может быть, теперь тебе не возвратили бы назад и фотографию Ниночки только из-за того, что она снялась для меня в наряде Сандрильоны-судомойки с мочалкою в руке. Впрочем, ты ведь и сама недавно была в Петербурге и, конечно, знаешь лучше меня, что теперь можно и чего нельзя.
Я по-прежнему каждый день хожу, закутавшись, по своей тропинке в садике и мечтаю среди сугробов снега, но по временам вдруг взгляну и увижу: целые десятки воробьиных глаз смотрят на меня с голых ветвей кустов и следят за каждым моим движеньем, ожидая крошек хлеба. И невольно приходит тогда в голову: то, что для тебя представляет лишь случайный интерес, для других существ является очень важным фактом в жизни и ты сам являешься для них очень важной особой, за каждым движением которой необходимо очень внимательно следить.
Не беспокойся так сильно о моем здоровье, дорогая Варя. Хуже всего для меня не оно, а моя рассеянность и забывчивость. Читаешь иногда свои старые заметки и думаешь: да неужели это я написал? Если не в чем другом, то в этом я стал теперь похож на знаменитого физика Ампера, который раз, отправляясь из своей квартиры к знакомому, начертил на своей двери: «Ушел и не вернусь до десяти часов». Не застав знакомого дома, он вернулся назад и вдруг видит на дверях свою собственную надпись. «Экая досада, — говорит он, — и этот тоже ушел и не вернется до десяти часов! Что же мне теперь делать? Пойду и погуляю по улице!» И ушел.
Вот то же самое часто бывает теперь и со мной. Прощайте же, мои дорогие! Будьте здоровы и счастливы. Целую всех племянников и племянниц. Мой привет всем, кто меня не забыл.
Письмо XVIII (6 августа 1905 г.)
Дорогая моя, милая мама, вот снова увидался я с вами на фотографической карточке и мысленно целую вас множество раз. Я думал, что человек, живущий в обычных, нормальных условиях, даже и представить себе не может, какая это отрада — видеть родные физиономии и родные места, хотя бы только на картинках. Это совсем не то, что одни простые письма безо всяких иллюстраций! Из писем узнаешь, что пережито и передумано человеком, но он сам как живое существо остается в тени и рисуется в воображении как-то смутно, как будто встретился с ним ночью. А потом обыкновенно оказывается, что его внешность совсем не такая, какою ее представлял себе. Это со мной нередко случалось, когда я знакомился с людьми на свободе сначала по переписке, а потом уже лично или в давние годы через стену.
Но другое дело, когда сразу получаешь и письма, и фотографии их авторов. Тогда все освещается, и кажется, что если когда-нибудь пришлось бы увидеть этого человека, то сейчас же узнал бы его в целой толпе. Так я знаю теперь и представляю себе очень живо всех своих племянников и племянниц, карточки которых мне были присланы, хотя они и появились на свет и выросли уже после моего заключения. Знаю и Ниночку, и Маню, и Ниночкину тетю Нину, и всех тех, кто окружает вас теперь в родных краях, а за вами самими, дорогая мама, могу следить, открыв свой альбом, год за годом. Вот и теперь пересмотрел все, собираясь вам писать.
Сижу сейчас в уголке крошечного, как клетка, садика и пишу вам это письмо посреди травы под тенью лопуха и необыкновенно высокого зонтичного растения (Archangelica officinalis), которое нарочно не полол, потому что оно мне кажется очень живописным. Вечер теплый и ясный, солнце склоняется к закату, а высоко над головой летают последние перелетные ласточки и щебечут между собою о чем-то неизвестном. И вот переношусь своими мыслями к вам и думаю, что и у вас теперь такой же ясный и тихий вечер и все у вас, может быть, уже сидят за большим столом на террасе или в саду под тенью больших берез и пьют вместе с вами вечерний чай или, может быть, выкупались и возвращаются домой.
Мое здоровье, дорогая, то же, что и прежде.
[...] Я рад сообщить тебе, что уже не раз упомянутые в этих письмах мои работы «Строение вещества», «Основы качественного физико-математического анализа» и «Законы сопротивления упругой среды движущимся в ней телам» переданы этой весной после двухлетних затруднений тому же самому профессору[223], который рассматривал четыре года тому назад мою прежнюю работу «Периодические системы». В следующем письме, зимой, вы, может быть, получите от меня и сообщение о результатах.
В этом же году я написал новую книгу по высшей математике, где дается дальнейшее развитие вопросам, поднятым еще в первую половину XIX столетия гениальным английским математиком Гамильтоном, основателем так называемой «векториальной алгебры» и метода «кватернионов». Вот этому-то самому предмету и посвящена только что законченная мною теперь работа «Аллотропические состояния и метаморфозы алгебраических величин»[224], где аллотропическими состояниями величин называются такие случаи, когда они принимают вид комплексных и им подобных выражений, считавшихся в старые времена «мнимыми», но реальность которых была указана еще Гамильтоном.
Знаю, дорогая моя Верочка, что от этого определения у тебя останется только звон в ушах, но уж прости меня: никакого другого тут дать невозможно. Таков предмет, все это сочинение (составляющее 26-й том моих работ и черновых набросков) переполнилось математическими формулами, графиками и вычислениями. В нем только четыреста с небольшим страниц, но, для того чтоб написать их в этом окончательном виде, пришлось исписать различными подготовительными вычислениями по крайней мере вчетверо больше бумаги, а потом лишь резюмировать их окончательные результаты. Некоторые вычисления приходилось делать подряд несколько дней и исписать цифрами и преобразованиями страниц по двадцати бумаги, а потом свести все на одну страницу, и голова у меня под конец подобных утомительных операций готова была лопнуть, а бросить посредине и отдохнуть было нельзя, чтобы не потерять связи начала вычисления с их концом. Раз дошел даже до такого отупения, что стал наконец путать таблицу умножения и, получив нелепый результат, нашел при проверке, что в одном месте я сосчитал пятью пять — сорок пять, вследствие чего написал и посылаю теперь для моих маленьких племянников и племянниц следующее стихотворение: