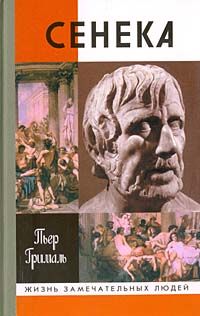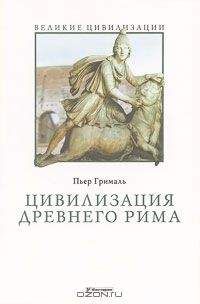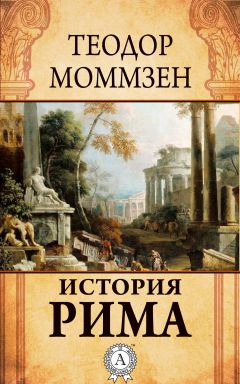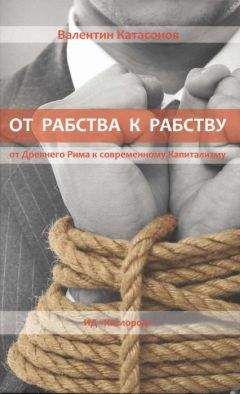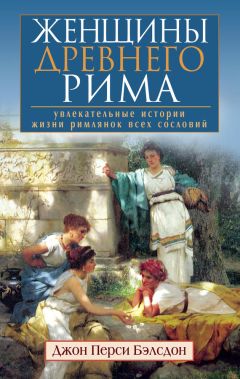Пьер Грималь - Цмцерон
Вряд ли можно допустить, что Цицерон просто выдумал эту сцену: в Арпипе частенько показывали «дуб Мария» — тот самый, с которого и взлетел «орел, золотистая птица, Юпитера вестник».
Разрозненные сведения такого рода позволяют составить себе некоторое представление о поэме в целом. Написанная после смерти Мария или, во всяком случае, после его изгнания и возвращения, она должна была начинаться с воспоминаний о прошлом, со сцены знамения, которая была выписана вплоть до мельчайших деталей: змея, тонущая в ручье, символизировала судьбу врагов Мария, тщетно преследовавших маститого консулярия в топях Минтурн. Жизнь героя вряд ли описывалась здесь полностью, от начала до конца. То не была, по всему судя, эпопея в духе Энния, а тщательно разработанный драматический эпизод, иллюстрировавший тему Судьбы, близкий по композиции к сходным эпизодам у Гомера.
Такова, как можно предположить, была поэма о Марии. В ней нашел себе выражение местный патриотизм жителя Арпина, но в гораздо большей мере — восторг перед человеком, который спас Рим, заградив дорогу опустошительному нашествию варваров, восхищение его virtus, силой духа полководца, которого не сломили беды и неудачи. Но можно заметить здесь и другое чувство, которое исподволь начинает просыпаться в молодом поэте: стремление — может быть, неосознанное — сравняться с великими мужами Рима, взглянуть в лицо опасностям, грозящим каждому, кто вступает на путь управления государством. Скорее всего именно в этом источник восторга и вдохновения, одушевлявших автора «Мария», В сущности, поэму эту можно было бы считать всего лишь незрелым произведением юности, но воспоминание о ней осталось у Цицерона надолго. Когда настал его черед изведать изгнание, он вспомнил о Марии и сравнил себя с ним — например, в благодарственной речи к народу, вернувшему его из ссылки. Эта манера характеризовать себя, характеризуя других, типична для Цицерона. Она порождена не тщеславием, а способностью ставить себя на место другого человека и переживать те чувства, которые испытывал он. Цицерон писал свою поэму в двадцатилетием возрасте и не мог тогда предположить, что сходная судьба ждет его самого, но, рассказывая о своем герое, он уже пережил все опасности, с ней связанные. В сущности, эта способность и делает человека поэтом.
Когда отец Цицерона отвез его в Рим и представил старому Муцию Сцеволе, он одновременно поручил его и заботам друга или родственника их семьи Марка Пупия Пизона, который был лишь несколькими годами старше Цицерона, но уже снискал себе славу многообещающего оратора. Отец выбрал Пизона не только из-за его таланта, но, по свидетельству Аскония, также и потому, что тот вел жизнь, достойную нравов предков, и был весьма начитан. Пизон как раз вступал на «дорогу почестей»; ему предстояло стать квестором в 83 году, претором, правда, лишь в 72-м, а консулом в 61-м, после службы в восточной армии Помпея в качестве легата, и двумя годами позже Цицерона, его, если можно так выразиться, ученика. В приписываемой Саллюстию «Инвективе против Цицерона» можно прочесть, будто последний почерпнул свое «неумеренное» красноречие у Пизона, но заплатил за эти уроки целомудрием. Это, разумеется, одна из тех клевет, которыми во все времена награждают друг друга политические противники, но в ней достойно внимания свидетельство о том, что Пизон оказал на Цицерона некоторое влияние в годы ученичества, в начальную пору ораторской деятельности. Примечательно, что в доме Пизона жил и принимал участие в его ученых занятиях философ-перипатетик по имени Стасей — ученики Аристотеля представляли философскую доктрину, которая, по собственному признанию Цицерона, была особенно плодотворна для оратора. Через Стасея и благодаря Пизону Цицерон и познакомился с философией Аристотеля, склонность и уважение к которой он испытывал на протяжении всей жизни.
В те годы, однако, на жизненном пути ему встречались и другие философы, многие из них вызывали его горячий интерес. Первым был эпикуреец Федр, произведший на Цицерона сильное впечатление искусством речи, жизненной умеренностью, очевидной добротой и готовностью всегда прийти на помощь. На какое-то время Цицерон сделался эпикурейцем. Затем настал черед Филона из Лариссы — философа академической школы, который, дабы избежать треволнений, связанных с Митридатовой войной, в 88 году перебрался в Рим. Филон исповедовал учение скептической Академии, то есть философию Карнеада, пытаясь, однако, обнаружить признаки и критерии если не положительных знаний о мире, то по крайней мере вероятностного знания, на основе которого можно было бы строить некоторую деятельность. Он не только не присоединялся к традиционному в платонизме осуждению риторики, но, напротив того, признавал ее пользу и даже формулировал определенные наставления, призванные помочь при подготовке ораторских выступлений, ибо полагал, что философу не пристало оставаться безразличным к положению в государстве и что дело оратора указывать в каждом отдельном случае, какое из обсуждаемых мнений наиболее оправдано, наиболее соответствует нравственному благу и приличию. Сам он говорил не без блеска, и Цицерон, как и в случае с Федром, увлекся не только учением, но и человеком, его проповедовавшим, и перешел из школы Эпикура в лагерь последователей Платона.
Вскоре он познакомился и со стоицизмом. Ввел его в это учение некий Диодот, открывший молодому человеку все тайные соблазны диалектики, которую стоики весьма ценили и рассматривали как отрасль знания, дополняющую ораторское искусство. По причинам, нам точно неизвестным, Диодот близко сошелся с Цицероном и поселился в его доме, где прожил долгие годы вплоть до своей смерти около 60 года. Под старость Диодот ослеп и проводил дни, играя на лире, слушая чтецов, знакомивших его с многочисленными научными сочинениями, и решая задачи по геометрии — и после утраты физического зрения он умственным взором продолжал ясно видеть геометрические фигуры. Умирая, он завещал все свое скудное имущество Цицерону, другой семьи у него, по-видимому, не было.
Среди наставников Цицерона был и еще один стоик, Луций Элий Стилон, в центре внимания которого находилась не столько диалектика, сколько проблемы языка и стиля; Цицерон довольно подробно рассказывает о нем в «Бруте». Занимаясь проблемами латинского словаря, он уделял также много времени прошлому Рима, истории его учреждений и его литературе, проложив тем самым путь, по которому вскоре пошел Варрон, также бывший учеником Стилона. Риторикой как таковой, однако, он серьезно не занимался никогда: она, по-видимому, плохо сочеталась с его убеждениями философа-стоика. Для близких друзей он тем не менее составлял речи и записывал их текст, став таким образом одним из очень немногих римлян, причастных к логографии. Цицерон считал его речи «несерьезными» и, по всему судя, немного почерпнул из его уроков, разве что вкус к ранней римской литературе или, во всяком случае, знакомство с ней.