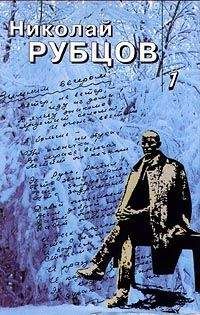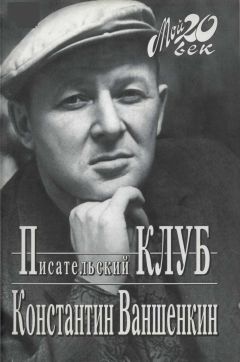Константин Ваншенкин - Писательский Клуб
Здесь его интонация, вкус, естественность, даже корявость, без которой нет Винокурова.
Теперь о нем самом. Он был настоящий московский парень, никого не боялся, готов был, защищая себя, подраться на улице. Ездил на каток на Патриаршие пруды (по — московски — на «Патрики»). Ему была свойственна замкнутость на себе. Даже эгоцентризм. У меня когда‑то были две пожилые поклонницы, две сестры. Давние любительницы поэзии, они время от времени дарили мне потрясающие книжки, вышедшие еще в первые советские годы: «Костер» и посмертный сборник «Стихотворения» Гумилева, «Белая стая» Ахматовой, «За струнной изгородью лиры» Северянина, «Демоны глухонемые» Волошина… Представляете, чем это было в 50–е годы? Женя долго облизывался и однажды предложил мне познакомить его со старушками. Я поинтересовался:
— Зачем?
Он объяснил простодушно: — Для дела! Может, они и мне подарят.
Мой тесть был замечательным врачом. Один из спасенных им пациентов преподнес ему огромную редкость по тому времени — Библию издания 1910 года в роскошном кожаном переплете. Женя попросил ненадолго почитать, — видно, хотел писать библейские стихи. Не отдавал книгу больше года, вернул с трудом, очень недовольный. Все это выглядело по — настоящему умилительно.
В его стихах с самого начала присутствовала собственная интонация. Это как голос, с этим надо родиться. Выработанный годами вкус. Он был образован, начитан, но тоже со своим винокуровским упрямством. Не читал, например, «Мастера и Маргариту». На мой вопрос — почему? — ответил:
— Ну вот я такой. Все читали, а я нет…
Он был демобилизован после войны по нездоровью, — обнаружился процесс в легких. Тогда существовал метод лечения — «заливать жиром». Ему нарушили обмен веществ, и он очень быстро полнел. Женя пытался соблюдать диету. Он любил писательский ресторан, любил подсаживаться к друзьям и знакомым, часами разговаривать. У него была дерматиновая папка на молнии, Таня клала туда морковь, яблоки. Он, посмеиваясь над собой, грыз эту снедь, но иногда не выдерживал — просил у кого‑нибудь отрезать кусочек от бифштекса.
Набрав околопредельный вес, он в очередной раз ложился в Институт питания и, сбросив килограммов тридцать, появлялся в старом костюме, почти стройный. Эти метаморфозы вызывали всеобщее ликование. Но новые костюмы не перешивал, вскоре они опять были ему впору. Мы словно общались с несколькими Винокуровыми.
Его любили молодые, особенно начинающие, тянулись в его кружки, объединения, литинститутский семинар. Среди его учениц числится Ахмадулина.
Широко известны его строки:
Художник, воспитай ученика,
Чтоб было у кого потом учиться.
Думается, ему это не удалось — воспитать такого ученика-учителя. Впрочем, подобное никогда не происходит специально. А действительные ученики гордились им, восхищались, после занятий дружно провожали до дома.
Но он был одинок. Особенно последние годы жизни. Он вел семинары с самим собой. Посмеиваясь, рассыпал свои афоризмы. Студенты, как правило, их не замечали и потому не могли оценить. Он делал это для себя, запоминал, записывал. Они не научились его зоркости, лаконичности. Я обнаружил это на институтском вечере памяти Винокурова.
О его единственной песне. Стихи Винокурова не поются. Кроме одного. Но это не мы его заметили, а Бернес.
Напечатанное в «Новом мире» стихотворение «Москвичи» начиналось так:
Там синие просторы спокойной Сан — реки, там строгие костелы остры и высоки.
Лежат в земле, зеленой покрытые травой,
Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой…
А кончалось:
Где цоколь из фанеры — привал на пять минут!
По — польски пионеры о подвигах поют.
Бернес, решивший сделать из стихотворения песню, сразу сказал, что первый «куплет» нужно переделать, а последний убрать и вместо него написать другой. «Я скажу — о чем».
При личной встрече поэта и артиста выяснилось, что Винокуров уже сократил стихи. Он продолжал биться над ними и после напечатания. Он не просто освобождался от этих двух строф, — он избавлялся от прежнего мышления, стереотипов, штампов, сдирал с себя ошметки старой кожи. Бернес пришел в восторг, но через несколько дней заявил, что у песни нет конца. То есть у стихотворения он, может быть, есть, но для песни не годится:
Пылает свод бездонный,
И ночь шумит листвой Над тихой Малой Бронной,
Над тихой Моховой.
И началось то, что обычно бывает в таких случаях. Разговор на разных языках, непонимание, долгие бесцельные препирательства, ни на чем не основанная надежда, что исполнитель согласится с тобой. Как это мне все знакомо! Наконец поэт сдается:
Но помнит мир спасенный,
Мир вечный, мир живой Сережку с Малой Бронной И Витьку с Моховой.
Но чтобы добиться этого от поэта, какой нужно было обладать силой убеждения, обаяния, аргументацией, уверенностью, что нужно поступить именно так.
Любопытно, что, несмотря на успех и широкую известность песни, Винокуров при последующих изданиях стихотворения так и оставил свой вариант. Для него концовка песни выглядела слишком плакатно, прямолинейно, так же как для Бернеса концовка стихов была чересчур спокойной, статичной. Так они и остались каждый при своем мнении. И песня тоже осталась — одна из лучших песен, появившихся после войны.
Но я не сказал еще о ее мелодии. Откуда появился здесь Андрей Эшпай? Очень просто. Он буквально перед этим писал музыку к фильму «Ночной патруль», где снялся Бернес, и его работа понравилась артисту. Выбор вообще оказался попаданием в десятку. Эшпай был ровесником Винокурова, воевал поблизости от него, в Польше. Да и жил он на Бронной, только на Большой. Все сходилось, вызывало ответное чувство. А тут еще Бернес со стихами сам приехал к потрясенному композитору в его полуподвал. И Эшпай сочинил трогательную городскую мелодию с явственным для меня отголоском шарманки…
И наконец. Когда умер Женя, я позвонил вечером нашему институтскому однокашнику, известному прозаику. Повздыхали. И вдруг он попросил меня прочесть по телефону винокуровскую песню. Слушал, затаив дыхание, лишь переспросил в конце:
— «Не помнит мир спасенный»?
Я повторил как есть:
— «Но помнит мир спасенный».
— Нет, — сказал он грустно, — не помнит! Так точней…
А может, он и прав?
«Утешил!»
Как я уже говорил, критика долго упоминала нас с Женей только рядом, почти не различая.
Замечателен устный винокуровский рассказ середины пятидесятых, многократно им повторяемый, о том, как он пришел на прием к старому издательскому волку Н. В. Лесючевскому. Пришел с недоумением и жалобой на то, что рукопись его не ставят в план.