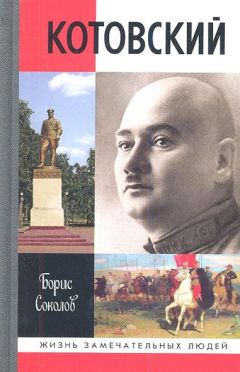Василий Козаченко - Молния
16
Он увидел это объявление, едва ступил на перрон возле багажного склада. Глаза как будто ослепило ударом, на миг показалось, будто кто-то внезапно выстрелил ему в грудь. Опустив голову, минуту стоял так, ошеломленный, сдерживая расходившееся сердце.
Федора Кравчука он лично не знал. Его избрали секретарем уже не при Максиме. Да и был Федор не скальновский, а, верно, из областного центра. И все-таки Максим чувствовал себя так, словно потерял вдруг самого родного человека и остался совсем один в чужом и незнакомом месте.
С первой же минуты один, без связи и руководства...
"Держись, парень, ясно?" - подумал он, усилием воли принуждая себя успокоиться.
- Т-так! Интересуешься, значит, Зализный!
Слова прозвучали настороженно и злорадно.
Максим поднял голову.
В двух шагах от него, сузив глаза, стоял Дуська Фойгель. С винтовкой за плечом, с белой повязкой полицая на рукаве черного пиджака. Взгляд тяжелый, пронзительный.
Когда-то Дуська учился не в "заводской", а в "сельской" - второй школе, но встречались они не однажды и хорошо знали друг друга. Знал Максим и о том, что Дуськин отец был из херсонских немцев-колонистов и года два назад его арестовали органы безопасности.
Максим сдержанно усмехнулся:
- О, Фойгель! Ну, вижу, ты тут ворон не считал!
Дуська не принял шутки. Слегка кивнув на объявление, так, словно Максим и не сказал ничего, переспросил:
- Знал дружка?
- Нет, не довелось. Видно, не здешний?
- Ага, - теперь и Дуська криво усмехнулся одними тонкими губами. "Дружок" мой. Из комсомола меня за отца исключил. Маскировочку с меня сорвал. Через него, гада, никуда учиться не пустили... Ну и я с него тоже маскировочку содрал. Засек... И ваших нет! - И, посуровев, с издевкой и угрозой спросил: - Ну, а ты? Отвоевался, говоришь?
Максим ответил равнодушно, чтоб хоть что-нибудь сказать:
- Вояка из меня... сам видишь... Начали эвакуировать институт, а я домой.
- Документы! - властно приказал Фойгель.
Долго разглядывал паспорт, "белый" военный билет, студенческое удостоверение.
- А в мешке что? Оружие есть? Развяжи!
Возвращая после старательной проверки документы, сказал:
- Ну, иди... пока что... а там посмотрим. Но только чтоб немедленно, сегодня же, зарегистрировался в управе.
"Конечно, посмотрим!" - с отвращением подумал Максим, понимая, что Дуська берет его "на пушку", куражится, хочет власть свою показать. Пропустив мимо ушей последние Дуськины слова, он спросил:
- Про старика моего не слыхал?
- Все железнодорожники дали драпака, угнали их с эшелонами. Ну, да все равно далеко не уйдут, вернутся скоро, если не разбомбят. Он ведь у тебя, кажется, беспартийный?
- Вернется, - не отвечая на Дуськин вопрос, подтвердил Максим, вкладывая свой смысл в это слово. - Обязательно вернется.
Во время боев Скальное дважды переходило из рук в руки, его обстреливала артиллерия, и потому много домов в городке было разбито и сожжено. Почти что вся нагорная часть Максимовой улицы выгорела, только в нижней части ее уцелела хата Кучеренков. За Кучеренками, отделенная от соседней вишневым садом, стояла хата Зализных. Вернее - бывшая хата. Как раз на том месте, где было когда-то родное гнездо, лежали теперь поваленные стены и одиноко торчала уцелевшая, расписанная синими цветами печь.
Вишни вокруг хаты были иссечены осколками, зеленые листочки на них высохли и свернулись. Дальше, вверх по улице, чернели пепелища еще шести хат.
Долго стоял на пожарище Максим, раздумывая, что же ему теперь делать. Отец повел эшелоны на восток и сейчас где-то за линией фронта. Бабушка еще в прошлом году умерла, хата сгорела, секретаря райкома Кравчука расстреляли. Единственным близким человеком, если только он уцелел, был путевой сторож, старый Яременко, да и тот живет в будке где-то за городом. А тут - ни одного родственника, ни одного близкого человека, никаких связей. Так, словно после кораблекрушения выкинуло его на чужой и пустынный остров.
Холодная, тяжелая печаль сдавила сердце болью, отозвалась во всем теле. На какой-то миг он даже заколебался: а может, лучше вернуться в город?
Там у него, наверное, найдутся хорошие знакомые, там легко возобновить утраченные связи, да и проще затеряться в городской толчее. А тут... стоишь будто у всех на виду (в памяти встали прищуренные, холодные Дуськины глаза), и со всех сторон тебя видно.
Стараясь сосредоточиться, не растеряться, попробовал взглянуть на себя, на свое положение со стороны, трезвыми и беспристрастными глазами. Поискал даже, нет ли в этой ситуации хоть капли юмора.
Но оснований для юмора не было. И все-таки - вымученно, со злостью усмехнулся. "Так, ясно... Великий конспиратор! - подумал он про себя. Сам напросился, а теперь сразу и растерялся. Что ж, этой глисты испугался? Не хватало еще, чтобы ты, не понюхав пороху, не испробовав ничего, ноги на плечи - и драпанул?
Нет, право, весело поглядеть на такое со стороны!.."
Максим издевался над самим собой, и от этого на душе у него становилось как-то спокойнее, увереннее...
А из окружающих его развалин, из пепелищ поднимались и вставали рядом Артур, Павка Корчагин, нежная и волевая Перовская, мужественная и суровая Леся.
Они стояли рядом, смотрели на него и... ждали.
Нет, и в юре я петь не забуду,
Улыбнусь и в ненастную ночь...
[Перевод Н. Ушакова.]
"Тебя послали именно сюда и приказали работать именно здесь. Ты сам этого хотел. А те, что тебя послали, знают, что в нужную минуту ты будешь именно тут, а не где-нибудь в другом месте. Связи? Вокруг тебя твои земляки, такие же советские люди, как и повсюду.
Вот и начинай, налаживай связи, потому что кому же, как не тебе, известно, кто тут что думает и чем дышит?"
Не выходя на улицу, низом, через обгорелый сад, Максим побрел к уцелевшей кучеренковской хате.
...Уже у Кучеренок (он нашел здесь старого деда, его невестку и троих детей) к Максиму вернулось утраченное было ощущение того, что он все-таки дома, в родных краях, а не в чужом, разрушенном мире.
Старик Кучеренко предложил ему остаться на первых порах в их хате:
- Живи, Максим, чего там! Вместе оно по нынешним временам вроде веселее даже...
Селиться в чьей-нибудь семье Максиму не хотелось.
Но как раз сейчас приглашение было очень кстати.
И какую большую и неожиданную радость испытал он, когда старик Кучеренко, набивая самосадом старую, обугленную трубку, сказал:
- А Карпо словно чувствовал. Перед тем как уехать на восток, пришел к нам. "Кто его знает, что там и как со мною будет, - сказал он, - дело такое, война не родная мать. Хату, говорит, я замкнул. А вот это, попрошу, пусть у вас побудет". И оставил целый ящик всякого инструмента, из одежи кой-чего да еще сундучок с игрушками, вроде бы твоими.