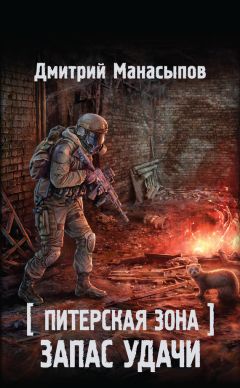Алла Гербер - Мама и папа
Действительно, просто подумал... Нет, не просто, как с годами выясняется, уезжая в другой город, ежедневно "давать о себе знать". И не как-нибудь, а с веселой выдумкой, с фантазией, потому что и это "давание" требовало дарования. Он не ленился выискивать смешные открытки — с кошечками и собачками, с розово-сиреневыми влюбленными, пронзенными стрелами амура, а сбоку каллиграфическим почерком — бессмертные фразы: "Люблю тебя, как ты меня" или "Жду ответа, как соловей лета"... Я берегу эти открытки в той самой японской коробке из-под конфет. И сейчас, разглядывая их, смеюсь и думаю: и где он их только покупал, на каком рынке находил и как, наверно, сам смеялся, опуская в щель почтового ящика, заранее предвкушая наш смех. А ведь мог бы послать обыкновенную почтовую карточку — но это было бы слишком просто и слишком скучно...
Отец никогда не приходил домой с пустыми руками. Еще одно правило, в дом — свой ли, чужой ли — "с пустыми руками не приходить". Вот что он особенно артистически умел делать — это тратить деньги, приводя в ужас маму, которая была хозяйкой, и ей, как я уже писала, приходилось расплачиваться и за папину необузданную потребность. Он мог выйти из дома с двадцатью рублями, мог — с тремя: разницы не было никакой. Домой все равно возвращался с полными сумками и с одной копейкой (копейкой — обязательно). Только став взрослой, я поняла, как бедно мы всегда жили, но, сколько ни стараюсь, не могу вспомнить, чтобы в детстве говорили о деньгах. О том, как трудно они достаются, я догадывалась — видела, сколько они работают. Но деньги проживались, а не собирались, не откладывались ни на черный, ни на светлый день.
Родственники, дяди и тети, с осуждением говорили, что они не умеют жить. Но я думаю, что умели. Вот как раз ЖИТЬ они умели.
Уезжаю от них вечером к себе домой (сама — жена, мать, хозяйка, не очень хорошая, но хозяйка) — и нахожу в кармане пальто три рубля с записочкой — "Это тебе, на глупости". Папа любил "глупости", нецелесообразные, бессмысленные, как могло показаться, вещи. Но какой скучной была бы без них наша жизнь. У нас не было многого, что считается для жизни обязательным: например, очень долго, когда у всех уже были, — холодильника, пылесоса. Стиральную машину, например, я до сих пор не соберусь купить... Но зато, сколько было замечательных "глупостей"! Устроить торжественный обед по случаю и без случая (повод всегда находился: хорошая погода, например, тоже повод) или всей семьей — в Большой театр, а в антракте — буфет с шампанским и нам, женщинам, коробку конфет — это пожалуйста, на это почему-то хватало...
Он не покупал внуку дорогие книги — из тех, что лучший подарок и запираются в шкафу. Зато сын хорошо помнит, как дедушка ходил с ним в один и тот же книжный магазин к продавщице Танечке. Для Тани всегда была припасена ее любимая ванильная шоколадка — не какая-нибудь, а любимая, и это надо было не полениться узнать, запомнить, чтобы маленький подарок доставил УДОВОЛЬСТВИЕ. Дело было не в том, как сейчас говорят: ты — мне, я — тебе — дело, опять же, было во внимании, в этой самой мелочи, которая не "за", а сама по себе.
Дружба с Таней продолжалась несколько лет, пока жив был папа. Прихода деда с внуком она всегда ждала, и, конечно, не шоколадка была тому причиной. Тане нравилось смотреть, как дед помогает внуку выбирать книжку, нравилось самой участвовать в этом маленьком спектакле — ей было интересно с ними дружить. Тогда еще детские книжки не были дефицитом, и Танечке не приходилось тайком доставать их из-под прилавка. Поход в магазин к Тане — еженедельный ритуал, который сын никогда не забудет. Это была его первая дорога к книгам, по которой дальше пошел он сам, но, оглядываясь назад, знаю — видит у самого ее начала высокого улыбающегося человека в неизменной шляпе, который машет ему рукой: мол, иди, не останавливайся... И он идет, но хорошо, что останавливается, задерживается памятью у того магазинчика, где их ждала с книжками-малышками круглолицая толстушка, которая больше всего на свете любила книги и... ванильный шоколад. В газетном киоске (папа специально не выписывал газет, чтобы рано утром самому их покупать), и в парикмахерской на Покровке, в "Артистическом" кафе у него были свои киоскеры, мастера, официанты, с которыми он дружил, оказывая им все те же знаки внимания, на которые не требовалось траты денег, зато требовались душевные взносы, а на них он не скупился. Уже после смерти папы они спрашивали меня: "А где ваш симпатичный отец, он был такой ВНИМАТЕЛЬНЫЙ?".
Теперь я часто думаю: как не хватает нам в жизни этих необязательных улыбок, этого нерасчетливого доброжелательства, этих ни за что, за просто так, добрых слов, а то и одного — и его бывает достаточно, а без него иногда повеситься хочется. Как казню я себя за их экономию, за поспешное "потом поговорим", а достаточно было минуты терпения, чтобы поговорить сейчас, ибо потом не бывает. Теперь-то я хорошо знаю, что это такое — родительские ожидания звонков, слов, сочувствия... Умные люди говорят, что нельзя ничего требовать, а надо терпеливо ждать. Наверно, они правы, на то и умные, но иногда ожидание непоправимо затягивается.
Мне было шесть лет, а Жанке восемнадцать, и она училась на первом курсе в медицинском институте. Жанка — моя двоюродная сестра, которую я любила как родную, тем более что родных сестер у меня не было. (Потому и пишу о ней в этой книге — она из нашего ДОМА). Перед самой войной она приехала к нам на каникулы — веселая, хорошенькая, плясунья-хохотунья... Она успевала за день обегать четыре музея, а вечером попасть в Большой или МХАТ (для нее почему-то обязательно находился "лишний" билет), а ночью, не останавливаясь, обо всем рассказать, изобразить, спеть, насмешить и, поспав три часа, мчаться утром в очередной музей, потому что дней осталось... ничего не осталось, а она еще не была... нигде не была. Когда Жанка уехала, даже в нашем шумном доме наступила неестественная тишина. Во время войны мы нашли Жанку в Ташкенте — красотку, королеву медицинского института, похожую, как мне тогда казалось, на всех известных киноактрис. Я смотрела на Жанку с восхищением, потому что она была девушкой моей мечты, и не только моей, если судить по свите, которая ее сопровождала. И все-то на ней (в ней) было ладно, кокетливо и притягательно. И стройные, быстрые ноги в маленьких, как сейчас помню, черных лодочках, и косынка в мелкий синий горошек, с продуманной небрежностью повязанная вокруг шеи, и каштановые волосы, в естественной, непарикмахерской свободе падающие на плечи, и белый халатик, который она каждый вечер стирала и крахмалила, сидел на ней как элегантное вечернее платье... Жанка-юла, Жанка-хохотунья и говорунья, идеал девчонок, любовь многих мальчишек, которых она провожала на фронт, пока однажды сама не пришла прощаться с нами.