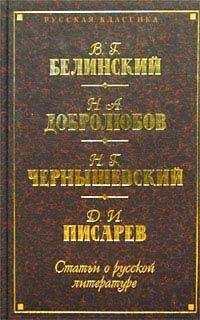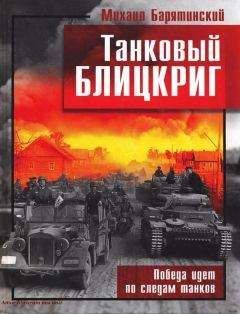Леонид Аринштейн - С секундантами и без… Убийства, которые потрясли Россию. Грибоедов, Пушкин, Лермонтов
Имею честь быть, милостивый государь, ваш нижайший и покорный слуга
С. Хлюстин» (XVI, 79, 379; подл. по-франц.).
Дело запахло дуэлью, и, надо сказать, Пушкин своим ответным письмом отнюдь не пытался ее предотвратить.
4 февраля 1836. Петербург.
«Милостивый государь,
Позвольте мне восстановить истину в отношении некоторых пунктов, где вы, кажется мне, находитесь в заблуждении. Я не припоминаю, чтобы вы цитировали что-либо из статьи, о которой идет речь. Заставило же меня выразиться с излишней, быть может, горячностью сделанное вами замечание о том, что я был неправ накануне, принимая близко к сердцу слова Сенковского.
Я вам ответил: «Я не сержусь на Сенковского; но мне нельзя не досадовать, когда порядочные люди повторяют нелепости свиней и мерзавцев». Отождествлять вас с свиньями и мерзавцами – конечно, нелепость, которая не могла ни прийти мне в голову, ни даже сорваться с языка в пылу спора.
К великому моему изумлению, вы возразили мне, что вы всецело принимаете на свой счет оскорбительную статью Сенковского… Расставаясь с вами, я сказал, что так это оставить не могу. Это можно рассматривать как вызов… Вследствие этого я поручил г-ну Соболевскому просить вас от моего имени не отказать просто-напросто взять ваши слова обратно или же дать мне обычное удовлетворение…
Имею честь быть, милостивый государь, ваш нижайший и покорнейший слуга
А. Пушкин» (XVI, 80, 379–380; подл. по-франц.).
Дело было улажено С. А. Соболевским, и дуэль была предотвращена.
Буквально на следующий день – 5 февраля у Пушкина происходит столь же неприятное столкновение с князем Николаем Григорьевичем Репниным из-за ложных слухов о том, что последний якобы оскорбительно отозвался о Пушкине в связи с сатирой «На выздоровление Лукулла». Черновик письма Пушкина к Репнину позволяет судить о степени раздражительности и запальчивости поэта в те дни:
5 февраля 1836. Петербург.
«Говорят, что князь Репнин позволил себе оскорбительные [неприличные] отзывы. Оскорбленное лицо просит князя Репнина соблаговолить не вмешиваться в дело, которое его никак не касается…» (XVI, 418; подл. по-франц.).
Впрочем, и переписанный набело текст, выдержанный, разумеется, в более уравновешенном тоне, был, по сути, не менее жестким:
«Князь,
С сожалением вижу себя вынужденным беспокоить Ваше сиятельство… Я не имею чести быть лично известен Вашему сиятельству. Я не только никогда не оскорблял Вас, но по причинам, мне известным, до сих пор питал к Вам искреннее чувство уважения и признательности.
Однако же некто г-н Боголюбов публично повторял оскорбительные для меня отзывы, якобы исходящие от Вас. Прошу Ваше сиятельство не отказать сообщить мне, как я должен поступить…» (XVI, 382; подл. по-франц.).
Репнин ответил в высшей степени тактично и доброжелательно, инцидент был исчерпан – дуэли не последовало. Но проходит еще несколько дней, и Пушкин опять на грани дуэли. На этот раз – с Владимиром Александровичем Соллогубом, якобы проявившим неуважение к Наталье Николаевне.
Вот что мы узнаем на этот счет со слов Соллогуба: <«Я получил> от Андрея Карамзина письмо, в котором он меня спрашивал, зачем же я не отвечаю на вызов А. С. Пушкина… Для меня это было совершенной загадкой. Пушкина я знал очень мало, встречался с ним у Карамзиных, смотрел на него как на полубога… И вдруг ни с того ни с сего он вызывает меня стреляться. Решительно нельзя было ничего тут понять, кроме того, что Пушкин чем-то обиделся… С Карамзиным я списался и узнал наконец, в чем дело. Накануне моего отъезда (в Тверь. – Л. А.) я был на вечере вместе с Натальей Николаевной Пушкиной, которая шутила над моей романтической страстью и ее предметом. Я ей хотел заметить, что она уже не девочка, и спросил, давно ли она замужем. Затем разговор коснулся Ленского, очень милого и образованного поляка… Все это было до крайности невинно… Но присутствующие дамы соорудили из этого простого разговора целую сплетню: что я будто оттого говорил про Ленского, что он будто нравится Наталье Николаевне (чего никогда не было) и что она забывает о том, что она еще недавно замужем. Наталья Николаевна, должно быть, сама рассказала Пушкину про такое странное истолкование моих слов, так как она вообще ничего от мужа не скрывала… Пушкин написал тотчас ко мне письмо, никогда ко мне не дошедшее, и, как мне было передано, начал говорить, что я уклоняюсь от дуэли. Получив это объяснение, я написал Пушкину, что я совершенно готов к его услугам, когда ему будет угодно, хотя не чувствую за собой никакой вины… Пушкин остался моим письмом доволен и сказал С. А. Соболевскому: «Немножко длинно, молодо, а впрочем, хорошо». В то же время он написал мне по-французски письмо…»[52] <с повторным вызовом на дуэль>.
Сохранились два черновика письма Пушкина к Соллогубу. Вот наименее резкий из них:
«Вы взяли на себя напрасный труд, давая мне объяснение, которого я у вас не требовал. Вы позволили себе обратиться к моей жене с неприличными замечаниями и хвалились, что наговорили ей дерзостей…» (XVI, 382; подл. по-франц.).
Сам Соллогуб, передавая впоследствии текст письма в смягченном виде, добавляет: «Делать было нечего; я стал готовиться к поединку… купил пистолеты, выбрал секунданта, привел бумаги в порядок и начал дожидаться… Я твердо, впрочем, решился не стрелять в Пушкина, но выдерживать его огонь, сколько ему будет угодно…»
По счастью, и этой – третьей из возможных дуэлей – тоже не суждено было состояться. Соллогуб находился тогда не в Петербурге, а в Твери; ехать в Петербург он не мог, а Пушкину отправляться в Тверь тоже было некогда. По прошествии времени поэт остыл. «Вероятно, гнев Пушкина давно уже охладел, – вспоминал Соллогуб, – вероятно, он понимал неуместность поединка с молодым человеком, почти ребенком, из самой пустой причины»[53].
Так или иначе, но поведение Пушкина в феврале 1836 г. весьма показательно. В марте он как будто чувствует себя более спокойно, но тут обрушивается новое несчастье: 29 марта умерла Надежда Осиповна – мать поэта. «Пушкин чрезвычайно был привязан к своей матери, которая, однако, предпочитала ему своего второго сына… Но последний год ее жизни, когда она была больна несколько месяцев, Александр Сергеевич ухаживал за нею с такой нежностью… что она узнала свою несправедливость и просила у него прощения, сознаваясь, что она не умела его ценить. Он сам привез ее тело в Святогорский монастырь… После похорон он был чрезвычайно расстроен и жаловался на судьбу, что она и тут его не пощадила, дав ему такое короткое время пользоваться нежностью материнскою…»[54]