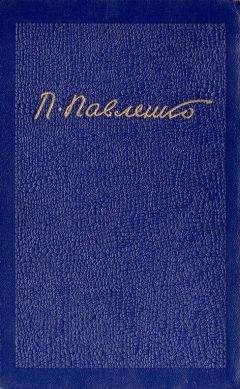Константин Поливанов - Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения
Сравнивая это описание путешествия из Марбурга в Италию с соответствующим фрагментом «Охранной грамоты», можно убедиться, что «поэтизации» (или «мифологизации») всех обстоятельств поездки в письме не меньше, а может быть, и больше, чем в написанном через несколько лет тексте художественной повести.
Здесь следует обратить внимание на еще одну характерную черту пастернаковских писем: подробности биографии и развернутые авто-характеристики поэта мы, как правило, встречаем в письмах к адресатам, с которыми Пастернак или вовсе не был знаком лично, или же это знакомство было крайне мимолетным. С Р. Н. Ломоносовой он вступил в переписку задолго до их единственной краткой встречи в Лондоне в 1935 году, знаменитая переписка с Рильке и Цветаевой (причем с Цветаевой это был многолетний роман в письмах) также была перепиской именно с «незнакомыми». Вспомним здесь и о значимой для Пастернака переписке с Дж. Риви, Владимиром Познером, о многочисленных письмах заграничным корреспондентам в 1950-х годах, о переписке с Жаклин де Пруайар и, наконец, о последнем эпистолярном «романе» Пастернака с Ренатой Швейцер. Когда уже после начала интенсивной переписки Рената захотела приехать в Москву, Пастернак пытался всячески отговорить ее от этого шага – очевидно, в непосредственном общении было достаточно трудно сохранять тот «художественный» образ своей жизни и самого себя, который конструировался в письмах, ведь и отношения с Мариной Цветаевой после парижской встречи 1935 года (первой после почти пятнадцатилетней переписки) практически прекратились. Мы можем с достаточной уверенностью констатировать, что именно переписка с незнакомыми людьми приобретала прежде всего характер литературного творчества, и именно поэтому содержащиеся в ней автобиографические «признания» следует анализировать с учетом их художественной обработки.
Возвращаясь к вопросу о выстраивании своей биографии Пастернаком и Ахматовой, мы прежде всего должны сказать, что ни тот, ни другая никогда не предпринимали искусственных шагов по организации своей реальной жизни или своего жизненного «имиджа», как это делали типичные «жизнестроители» начала века. В то же время «задним числом» они сознательно стремились к выстраиванию своей жизни как целостного, логически связанного и последовательного именно художественного текста. Прочерчиванье своей биографии через «разрывы» с музыкой, философией (расставания с обоими предметами в действительности были куда более длительными и неполными) для Пастернака, вероятно, носило характер создания композиционных пиков внутри «жизни-текста».
Ахматова, говоря о своей биографии в стихах, мемуарной прозе или устных беседах, постоянно стремилась «вписать» события своей жизни в общий контекст истории России XX века, нередко придавая фактам собственной биографии значение важных импульсов для «большой» истории. Так, она считала, что «холодная война» была следствием ее встречи с Исайей Берлиным в Ленинграде зимой 1945/1946 года. (Отдельным вопросом является то, насколько она была в этом права. Действительно, приход к ней И. Берлина и то, что ее гостя начал разыскивать в Ленинграде, придя под окна Фонтанного дома, Рандольф Черчилль, послужило немаловажной причиной включения ее имени в ждановское постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», создавшее идеологическую атмосферу, во многом способствовавшую «холодной войне».) Показательны такие ее поэтические строки: «меня, как реку, суровая эпоха повернула», «на разведенном мосту, в день, ставший праздничным ныне, кончилась юность моя», «я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был» и другие – определенно показывающие, что «строительство» биографии осуществлялось с осознанием своей главной роли – роли поэта – «свидетеля» и «участника» драматической истории собственной страны.
Чрезвычайно важным для Ахматовой было и закрепление собственного понимания своей литературной эпохи, она настойчиво на протяжении десятилетий рассказывает собеседникам о взаимоотношениях Николая Гумилева и Вячеслава Иванова, о создании «Цеха поэтов», об истории возникновения акмеизма, о Максимилиане Волошине, о своих отношениях с Александром Блоком, выстраивая концептуально «правильную» картину расстановки литературных сил и отношений в рамках «литературного быта». Почти дословно совпадающие записи разговоров с Ахматовой мы находим и в дневниках Павла Лукницкого за 1920-е годы, и в дневниках Лидии Чуковской, знакомство с которой начинается на десять лет позже, и в многочисленных мемуарах знакомых Ахматовой 1950—1960-х годов. Сама Ахматова в последние годы такие рассказы называла «пластинками», многие из которых мы обнаруживаем и среди фрагментов ее мемуарной прозы 1950–1960-х годов. Многие из этих «пластинок» носили подчеркнуто полемический характер. Уже с 1920-х годов Ахматову возмущали мемуары Георгия Иванова, создававшие «неправильную» картину эпохи[94], и заочный «спор» с ним продолжался вплоть до записей последних лет. Ахматову заботила и проблема воспоминаний о ней: мы знаем, что она настойчиво уговаривала свою многолетнюю подругу и гимназическую соученицу Валерию Срезневскую написать мемуары, редактировала и правила ее текст, но, правда, все равно, кажется, осталась недовольной результатами[95]. Она, несомненно, знала, что многие ее собеседники ведут дневники. Так, дневник Лукницкого она уже в 1920-х годах просто читала. Существенная часть ее многочисленных дарственных надписей на книгах, фотографиях, оттисках, рукописях как бы подталкивала потенциальных мемуаристов в нужном направлении. Так, в надписях, делавшихся в разные годы Николаю Харджиеву, Ахматова регулярно датировала продолжительность (десятилетие, пятнадцатилетие и т. д.) их дружбы. Всем своим бывшим знакомым по Ташкенту, где она была в эвакуации во время войны, она регулярно писала «в память азийских встреч». Автору воспоминаний о разговорах с Ахматовой о Пушкине Эдуарду Бабаеву она сделала дарственную надпись «Дорогому Эдику, который всегда готов слушать мои бредовые речи о Пушкине». Ахматова фактически всегда не только точно датировала свои надписи, но фиксировала и место дарения – Москва, Ордынка; Комарово, Будка и т. д. – создавая из своих надписей своего рода дневник, хранящийся, однако, ее знакомыми. Сама она по обстоятельствам времени – постоянная угроза обыска или ареста, когда дневник окажется материалом для обвинения не только ее, но и ее друзей, – дневников не вела, и только в конце 1950-х годов, когда политические условия изменились, она начала в записных книжках тщательно фиксировать обстоятельства встреч, имена собеседников и т. д.