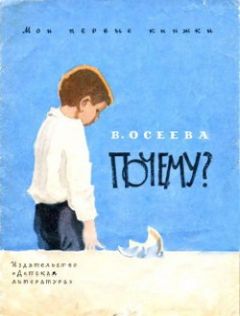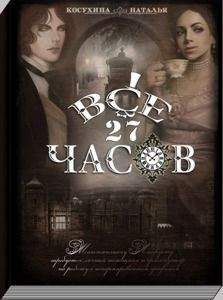Чеслав Милош - Азбука
Я восхищался многими людьми. Поскольку себя я считал кривым деревом, прямые деревья заслуживали моего преклонения. Правда, нужно помнить о том, что бывает перед Рождеством, когда мы отправляемся покупать елку. Ряды прекрасных деревцев — издали все кажутся великолепными, но вблизи почти ни одно не соответствует нашим представлениям об идеальной елочке. Одна слишком хилая, вторая — кривая, третья — низкая, и так далее. То же самое с людьми: наверное, другие представлялись мне такими внушительными потому, что я не знал их ближе, а мои собственные изъяны были мне хорошо известны.
Впрочем, не только мои, но и моей среды поэтов и живописцев. Общность искусства с генетическими пороками, увечьями, извращениями, болезнями — почти непреложная истина. Именно это показывают биографии писателей и художников, а, глядя вокруг, я мог найти подтверждение этому в судьбах моих друзей и знакомых. Однако здесь можно подозревать ошибку перспективы. Если подвергнуть столь же пристальному изучению самых простых смертных, может оказаться, что нормальность среди них встречается так же редко, как среди людей, прославившихся в области литературы и искусства. Просто жизнь знаменитостей у всех на виду.
Так я утешал себя, однако это не мешало мне искать тех, кто превышает меня, — неисковерканных. И в конце концов, ошибался я или нет, мою способность восхищаться следует записать в плюсы, а не в минусы.
ВремяНаш человеческий род веками размышлял, откуда взялся мир. Одни говорили, что у него должно быть начало, другие — что он существовал всегда. Для нас «всегда» утратило смысл, ибо до большого «бума» никакого времени не было, хотя его отсутствия не в состоянии передать ни наше воображение, ни язык. Что было прежде, чем что-либо начало быть? Средневековые схоласты из Шартрской и Оксфордской школ утверждали, что был божественный свет. Его transmutatio[148] в свет физический и создало мир. Они с удовлетворением восприняли бы теорию Большого взрыва и сказали бы: вот именно.
Думать о времени — значит думать о человеческой жизни, а эта тема столь обширна, что ее рассмотрение равнозначно мышлению как таковому. Все различия между нами — пол, раса, цвет кожи, обычаи, верования, взгляды — ничто по сравнению с фактом, что все мы сотканы из времени, рождаемся и умираем как поденки-однодневки. Неуловимое «сейчас» ускользает назад или убегает вперед, становится либо воспоминанием, либо устремлением. Речь, с помощью которой мы изъясняемся, — это модулированное время, как и музыка. А живопись и архитектура — разве не перелагают они ритм на язык пространства?
Я ношу в себе память о людях, которые жили и умерли, и пишу о них, сознавая, что спустя мгновение меня тоже не будет. Вместе мы словно облако или туманность среди человеческих созвездий двадцатого века. Мои современники: наше родство в том, что мы — из разных стран и с разных широт — все-таки жили в одно время. И в определенном смысле это родство сильнее, чем любые племенные узы.
Mnemosyne, mater Musarum
Да, Мнемозина, муза памяти, — мать всех муз. Эдгар Аллан По даже называл смертную печаль «самой поэтичной интонацией». Мы читаем стихи, написанные тысячи лет назад, — и везде одни и те же сетования, раздумья над течением реки, становлением и гибелью.
И вместе с тем огромная тоска по выходу за пределы времени, в страну вечных законов и нетленных вещей. Платон и его идеи: по земле бегают и умирают зайцы, лисы, лошади, но где-то там, наверху, пребывают вечные идеи зайцевости, лисости, лошадности — вместе с идеей треугольника и законом Архимеда, которых не опровергнет хаотичная, зараженная смертью эмпирия.
Врублевский, АнджейУ виленских евреев был свой собственный богатый мир, отгороженный от польского мира языком. Политические партии, школы, профсоюзы, газеты пользовались идишем, очень немногие — русским, хотя существовала и единственная в своем роде еврейская гимназия Эпштейна с польским языком. И сам Врублевский, и его жена, танцовщица Ванда, вращались в кругах Театра на Погулянке[149] и Польского радио. Для радио он, по заказу Тадеуша Бырского, выполнял какие-то мелкие заказы, а Ванда преподавала балетное мастерство в Театральном училище. В свою очередь, студенткой этого училища, а затем актрисой театра была Ирена Гурская, моя приятельница, которую оба они окружали сердечной заботой. Отсюда мое близкое и продолжительное знакомство с Анджеем. Тогда его фамилия была Фейгин. Как он написал много лет спустя в своей книге «Быть евреем…» (Niezależna Oficyna Wydawnicza 1992), ему не нравилась идея смены фамилии, но после войны он не хотел, чтобы его подозревали в родстве с печально известным функционером УБ[150] Фейгиным[151], и потому сохранил фамилию, которой пользовался во время оккупации.
Потом место действия изменилось — все мы постепенно перебрались в Варшаву. Анджей всегда был социалистом из ППС, поэтому ничего удивительного, что поселился он в социалистическом Жолибоже[152]. Ирена играла во Львове, затем в Варшаве, и вышла замуж — тоже за актера, Добеслава Даменцкого[153]. Весной 1940 года по приговору подполья был застрелен Иго Сым, действовавший в актерской среде по заданию оккупационных властей. В ответ немцы устроили охоту на убийцу. Поскольку Даменцкий неоднократно грозил Сыму[154], они были уверены, что убил он, и расклеили по всей Варшаве плакаты с фотографиями обоих Даменцких. Поначалу Добеслав с Иреной прятались в новой квартире Врублевских на Электоральной. Те же Врублевские помогали им в непрестанных переездах (около тридцати) и в смене внешности. Ирена говорит, что Анджей спас им жизнь.
Когда в июле 1940 года я добрался до Варшавы, Даменцкие уже жили в провинции под чужой фамилией — в тяжелых условиях, как можно узнать из воспоминаний Ирены, озаглавленных «Я выиграла жизнь». Но они выжили, а Ирена в эти военные годы родила двоих сыновей.
Вскоре после приезда в Варшаву я вступил в организацию «Свобода», к которой принадлежал и Анджей, — собственно, он был одним из ее основателей вместе с Даниэлем, то есть Вацлавом Загурским. Насколько я помню, мы с Ежи Анджеевским давали присягу в кафе «Аррия» (или «У актрис») на Мазовецкой. Это весьма вероятно, так как именно там собирался штаб «Свободы», считавший место выступлений дуэта Лютославского и Пануфника самым безопасным. Загурский написал, что это случилось в квартире Анджеевского. Я практически уверен в своей памяти, но спорить не буду. Кстати, как-то раз в том кафе к столику, за которым сидели трое подпольщиков с семитскими чертами лица, подошла хозяйка и тихим сладким голосом проговорила: «Евреи, разойдитесь, ради Бога, на вас весь зал смотрит». Кажется, это был 1941 год: комната со стеклянными раздвижными дверями в квартире Антония Богдзевича на углу Мазовецкой и Кредитовой, тахта, привезенная с Дынасов (наш единственный предмет мебели), Антоний, работавший барменом «У актрис», и еще множество людей, таких как Збигнев Мицнер, у которого было столько подпольных кличек и адресов, что я подозревал его в игре в конспирацию, Лешек Раабе[155], вызывавший восхищение и любовь товарищей, о котором я пишу отдельно, Зофья Рогович[156], с которой я шел из Вильно.