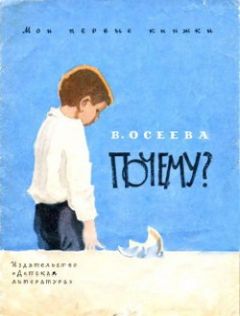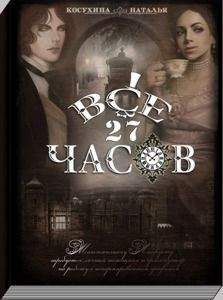Чеслав Милош - Азбука
Впрочем, это было бы слишком в духе романтической литературы. На самом деле все обстояло несколько иначе. Он действительно сидел в лагере и воевал в Италии, но не лежит на Монте-Кассино. Политработник Сержант Бульсевич был любимцем бригады: «Я слышал его уже много раз, однако сегодня это был настоящий фейерверк юмора и острот. Весь зал просто покатывался со смеху, а у меня от хохота слезы текли ручьем, — пишет в своем дневнике его армейский товарищ. — Должно быть, это очень способный человек. Он был автором и режиссером замечательного представления в праздник Газалы»[138]. И далее: «Кровавые потери нашей дивизии под Монте-Кассино произвели на него такое впечатление, что он подал рапорт с просьбой перевести его в один из пехотных батальонов для несения строевой службы. Не помогли никакие уговоры начальства, друзей и товарищей. Он уперся. Бульсевич по профессии журналист. До войны он работал диктором в виленской редакции Польского радио. При этом он не настолько молод, чтобы без последствий переносить тяготы службы на передовой. К тому же он давно не занимался боевой подготовкой».
Отправившись в разведку к реке Кьенти, он отделился от товарищей, решив самостоятельно обойти с тыла немецкий пост и бросить в него гранату. Был тяжело ранен в рот немецкой артиллерийской миной, выжил, но остался инвалидом и еле мог говорить. «Потом его эвакуировали в Англию, где ему должны были сделать какую-то особую операцию. Ходят слухи, что она не удалась, и он умер. Другие говорят, что он был не в состоянии смириться с таким тяжелым увечьем, впал в отчаяние и покончил с собой».
Бырские, Тадеуш и Ирена[139]Замечательные. Умные, честные, благородные. Я обожал их, они были моими друзьями, и для меня это была большая честь. Весь период работы на радио в Вильно — это Бырские. Нас турнули оттуда вместе. Любопытно, что после бурной культурной жизни в Вильно Бырский воспринял свою родную Варшаву как тихий провинциальный город.
Во время войны мы заглядывали к ним в Беляны[140]. Там они прославились на всю округу приключением своего пятилетнего Кшися. Он играл с другими детьми — разумеется, в войну, — а вместо каски носил найденный на помойке старый ночной горшок. «Враг» ударил его по голове палкой, и горшок наделся на голову по самую шею. Пришлось обернуть голову газетой и в таком виде везти беднягу на трамвае. Впоследствии он стал послом Польши в Индии и профессором индологии в Варшаве.
Когда Тадеуш должен был исчезнуть, он несколько недель жил у нас на аллее Независимости, но это была небезопасная квартира из-за дворника, который выслеживал, не помогает ли кто-нибудь евреям, — а черноволосый Тадеуш был похож на еврея.
Во время одной из своих поездок на запад Тадеуш навестил нас во Франции. А потом, летом 1981 года, после моего Нобеля, мы с ним вдвоем разъезжали по Варшаве в открытой машине.
В
Летом 1862 года Достоевский совершил путешествие во Францию и Англию, описав его в своем очерке «Зимние заметки о летних впечатлениях». Глава пятая, посвященная Лондону, называется «Ваал», ибо этому сирийскому и ханаанскому божеству, чье имя означает попросту «Господь», по слухам приносили человеческие жертвы. Никто, даже Диккенс на самых мрачных своих страницах, не рассказал таких ужасов о тогдашней столице капитализма, как Достоевский. Безусловно, у него, как у русского, были свои причины, чтобы не любить Запад, однако его моральное негодование настолько сильно, а описания настолько реалистичны, что трудно ему не поверить. Нищета, отупение от тяжелой работы, пьянство, полчища проституток, в том числе несовершеннолетних, — все это доказывало, что высшие классы Англии действительно приносили жертвы денежному Ваалу. Неудивительно, что зачатое в том же Лондоне пророчество Карла Маркса обладало такой силой мести. Все-таки, наверное, подчиняться закону Природы, когда или ты съедаешь, или тебя съедают, — ниже человеческого достоинства. Источником моих сильных социалистических инстинктов была мысль о миллионах втоптанных в грязь человеческих жизней. Правда, можно сомневаться, что эти втоптанные в грязь утешились бы, узнав о других миллионах, погибших в лагерях.
В самом начале двадцатого века другой русский, Максим Горький, посетил Нью-Йорк и написал репортаж под названием «Город желтого дьявола» (то есть доллара). Читая эту книгу, я думал, что он преувеличил, но не слишком: таким был тогда этот город для низов, и многие его особенности сохранились до сих пор. А Горький поехал потом на Соловки и послушно сделал вид, будто не понимает, что такое исправительно-трудовой лагерь.
Винницкая, Виктория, докторЕдинокровная сестра Юзефа Виттлина, родившаяся, как и он, во Львове, была врачом-педиатром. После 1939 года работала в советской системе здравоохранения и много ездила по Советскому Союзу. Когда Львов заняли немцы, переехала в Варшаву и, поскольку до войны принадлежала к художественным и аристократическим кругам, жила в относительной безопасности. Впрочем, у нее была так называемая правильная внешность: крупная блондинка с голубыми глазами. Сразу после войны она попала в Министерство здравоохранения, ездила за границу, в том числе в Нью-Йорк, к брату, у которого я с ней и познакомился. Затем стала чиновницей Всемирной организации здравоохранения и поселилась в Женеве.
Мы постоянно вели разговоры — в Нью-Йорке, Варшаве и Беркли, куда она приезжала почти каждый год в качестве visiting professor. Но дружбой я бы это не назвал. Сомневаюсь, была ли Викта вообще способна на дружбу, любовь или какие бы то ни было чувства. Быть может, какое-нибудь событие сковало ее сердце льдом, а может, она такой уродилась. Она страдала от полного одиночества, которое, как я подозревал, было связано с ее сосредоточенностью на себе. Когда-то она была замужем, но не обмолвилась об этом ни словом. Ее остроумные замечания и сплетни производили такое впечатление, будто в ее памяти сохранилось всё довоенное кафе «Земянское»[141]. Она была на «ты» со скамандритами, но больше всех дружила с Юлеком, то есть Тувимом. Кроме того, у нее было совершенно варшавское чувство черного юмора.
Ее знания о двадцатом веке были на редкость обширны — ведь она познала две тоталитарные системы и пережила Катастрофу. Она путешествовала по всему миру и говорила на множестве языков. Вероятно, эти знания легли в основу ее мировоззрения, в котором не было места вере во что бы то ни было, как, впрочем, и надежде. Даже марксизм был для нее духовной роскошью, не говоря уже о религии. Викта исповедовала материализм, но не диалектический. И едва не сходила с ума от ужасающего одиночества, повторяя, что должна наконец покончить с собой.