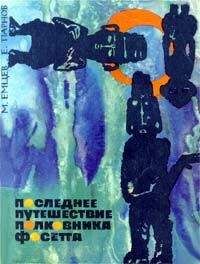Пабло Неруда - Признаюсь: я жил. Воспоминания
А потом – Мадрид с людными кафе; «простак» Примо де Ривера,[33] дававший первый урок тирании стране, которая потом хорошо узнает, что это значит. Первые мои стихи из книги «Местожительство – Земля» испанцы поняли не сразу, они поняли их потом, когда пришло поколение Альберти,[34] Лорки, Алейсандре,[35] Диего.[36] Тогдашняя Испания для меня была неостанавливающимся поездом, вагоном третьего класса, самым жестким вагоном на свете, который доставил нас в Париж.
Мы растворились в дымящейся толпе Монпарнаса, среди аргентинцев, бразильцев, чилийцев. Венесуэльцев там еще не было в помине, они еще томились, погребенные под владычеством Гомеса.[37] И кое-где можно было встретить первых индусов в длиннополых одеяниях. Моя соседка по столу – индуска, со змейкой, свернувшейся вокруг ее шеи, меланхолически медлительно тянула café crème.[38] Наша латиноамериканская колония пила коньяк, танцевала танго и цеплялась к кому не лень – лишь бы затеять свару.
Для нас, провинциальной богемы из Южной Америки, Париж, Франция, вся Европа были на одном пятачке: «Монпарнас», «Ротонда», «Ле Дом», «Ла Куполь» и еще три или четыре кафе. Тогда входили в моду boîtes[39] с неграми. Среди латиноамериканцев больше всего было аргентинцев; они оказались самыми задиристыми и самыми богатыми. Бывало, не успеешь глазом моргнуть, как заварилась каша, и четверо гарсонов хватают аргентинца, волокут его меж столиков и с шумом выбрасывают на улицу. Что и говорить, нашим братьям из Буэнос-Айреса не нравилось такое насилие над личностью; случалось, им мяли отутюженные брюки и – что гораздо хуже – портили прическу. В то время парикмахерское искусство было основной отраслью аргентинской культуры.
Сказать по правде, в те первые мои парижские дни – а пролетали они с необычайной быстротой – я не свел знакомства ни с одним французом, ни с европейцем, ни с азиатом, уже не говоря о жителях Африки или Океании. Мы, латиноамериканцы, говорившие по-испански, начиная с мексиканцев и кончая патагонцами, варились в собственном соку, выискивали друг в друге недостатки, не уставая, наговаривали одному на другого, но жить друг без друга не могли. Гватемалец всегда предпочтет общество бродяги-парагвайца и скорее будет самым невообразимым образом убивать время с ним, нежели томиться в компании Пастера.[40]
В те дни я познакомился с Сесаром Вальехо,[41] великим чоло;[42] его поэзия – хмурая и шершавая, точно шкура дикого животного, по мироощущение ее грандиозно, ей малы обычные человеческие мерки.
Не успели мы заговорить, как тут же вышла неловкость. Мы были в «Ротонде». Нас представили друг другу, и он со своим чистым перуанским выговором сказал:
– Вы – самый большой наш поэт. Вас можно сравнить только с Рубеном Дарио.[43]
– Вальехо, – ответил я, – если хотите, чтобы мы были друзьями, никогда больше не говорите мне такого. Если мы станем обращаться друг с другом как литераторы, из этого ничего не выйдет.
Мне показалось, что я его обидел. Мое антилитературное воспитание вылилось в обычную невоспитанность. Он, в отличие от меня, принадлежал к роду более древнему, роду, прошедшему через времена вице-королевства и знавшему, что такое учтивость. Я заметил, что Вальехо задет, и почувствовал себя неотесанным деревенщиной.
Но потом это прошло. А мы с того дня стали настоящими друзьями. Через несколько лет, когда я снова оказался в Париже, и надолго, мы виделись с ним каждый день. Тогда я познакомился с ним лучше, узнал его близко.
Вальехо был ниже меня ростом, он был тоньше и костистее. В нем больше, чем во мне, сказывалась индейская кровь, у него были очень темные глаза и очень высокий выпуклый лоб. Величавость, сквозившая во всем облике, накладывала некоторую печаль на его красивое, инкского типа, лицо. Он был тщеславен, как всякий поэт, и ему нравилось, когда говорили, что в нем чувствуется кровь аборигенов. Вальехо вскидывал голову, давая мне возможность восхищаться, и говорил:
– Есть во мне что-то, а? – и сам тихонько смеялся над собою.
Его восторги по поводу собственной персоны не походили на те, какие, бывало, обнаруживал Висенте Уидобро, поэт во многом противоположный Вальехо. Уидобро давал пряди волос упасть ему на лоб, закладывал палец за жилет и, выпятив грудь, спрашивал:
– Замечаете, какое сходство с Наполеоном Бонапартом?
Мрачность Вальехо была внешняя: так бывает мрачен человек, долгое время проведший в потемках, забившись в угол. По натуре он был немного торжествен, и лицо его походило на застывшую маску, почти священную. Но по сути своей, внутри, он был совсем не такой. Я много раз видел (особенно, когда нам удавалось вырвать его из-под каблука жены, француженки, чванливой тиранки, дочери привратника), как он резвился, словно школьник. А потом опять возвращался в прежнее подчинение и становился торжественным.
В один прекрасный день совершенно для всех неожиданно из сумерек Парижа вынырнул меценат, которого мы так ждали и который все никак не появлялся. Это был чилиец, писатель, приятель Рафаэля Альберти, в друзьях же у него были французы и еще полмира. А кроме того – и это главное – он был сыном владельца самой большой в Чили судоходной компании. К тому же – известен своим расточительством.
Этот свалившийся с неба мессия захотел устроить в мою честь праздник и повел всех нас в boоte под названием «Кавказский кабачок», который содержали русские белоэмигранты. Стены кабачка были изукрашены национальными костюмами и пейзажами Кавказа. Нас тут же окружили русские женщины или наряженные под русских, в одежде, какую носят крестьянки.
Кондон – а именно так звали нашего хозяина-амфитриона – походил на последнего отпрыска пришедшей в упадок родовитой семьи. Он был хрупок и белокур, без конца требовал шампанского и выкидывал такие колена, подражая казачьим пляскам, каких я никогда более не видывал.
– Шампанского, еще шампанского! – И тут наш бледный хозяин-миллионер рухнул. Он так и остался под столом, заснул мертвым сном, бесчувственный как труп, как кавказец, сраженный медведем.
У нас мороз пробежал по коже. Он не просыпался, как мы ни прикладывали ему ко лбу лед, как ни совали под нос пузырьки с нашатырным спиртом. Видя нашу растерянность и беспомощность, все танцовщицы нас бросили, осталась только одна. В карманах нашего щедрого хозяина мы не обнаружили ничего, кроме живописной чековой книжки, но чека он в своем положении бесчувственного трупа, разумеется, подписать не мог.