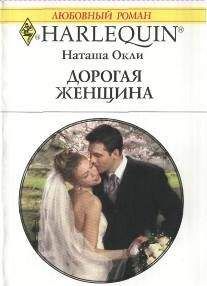Петр Вайль - Стихи про меня
Нет истины в спасительной формуле "чума на оба ваши дома" — какой-то из домов всегда заслуживает больше чумы. Виноватых поровну — не бывает.
Попытка понять и простить всех — дело праведное, но не правдивое. Собственно, и самому Волошину такое полное равновесие не удалось: при всей аполитичности в жизни, при отважных хлопотах "за тех и за других" его стихи о терроре — все-таки стихи о красном терроре.
Невозможен такой нейтралитет и для его потомков. Каким "Расёмоном" ни представала бы сложная политическая или общественная коллизия, как бы правомерны и объяснимы ни были разные точки зрения, расёмоновский источник зла существует, вполне определенный, с именем и судьбой. Можно попробовать отстраниться, но тога на нас не сидит и венок не держится на голове.
Волошин, к революции зрелый сорокалетний человек, поднимал тему искупления и покаяния. Эпиграфом к своему "Северовостоку" он взял слова св. Лу, архиепископа Турского, с которыми тот обратился к Аттиле: "Да будет благословен приход твой — Бич Бога, которому я служу, и не мне останавливать тебя".
Сам Волошин мог с основаниями писать: "И наш великий покаянный дар, / Оплавивший Толстых и Достоевских, / И Иоанна Грозного...": он хронологически и этически был близок к этим Толстым и Достоевским. Но именно такими, как у Волошина, отсылками к великим моральным авторитетам создан миф, с наглой несправедливостью существующий и пропагандирующийся поныне: мол, мы, русские, грешим и каемся, грешим и каемся. И вроде всё — индульгенция подписана, вон даже Грозный попал в приличную компанию.
С какой-то дивной легкостью забывается, что современные русские не каются никогда ни в чем.
Мы говорим и пишем на том же языке, что Толстой и Достоевский, но в самосознании так же далеки от них, как сегодняшний афинянин от Сократа или нынешняя египтянка от Клеопатры.
Просит прощения за инквизицию и попустительство в уничтожении евреев Католическая церковь. Штаты оправдываются за прошлое перед индейцами и неграми. Подлинный смысл политкорректности— в покаянии за века унижения меньшинств. Германия и Япония делают, по сути, идею покаяния одной из основ национального самосознания — и, как результат, основ экономического процветания.
Когда речь идет о невинных жертвах, подсчет неуместен: там убили столько-то миллионов, а там всего лишь столько-то тысяч. Но все же стоит сказать, что российский рекорд в уничтожении собственных граждан не превзойден.
Тем не менее в современной России никто никогда ни в чем не покаялся. При этом — считая своими Пьера Безухова и Родиона Раскольникова и прячась за них: знаете, мы, русские, такие - грешим и каемся, грешим и каемся. Все- таки те - они - совсем другие. То есть, конечно, мы — совсем другие.
Есть в медицине такое понятие - фантомная боль. Человеку отрезали ногу, а ему еще долго кажется, что болит коленка, которой давно нет. Нравственность Толстого, Достоевского, Волошина — наша фантомная боль.
ПО ДОРОГЕ ИЗ ДЕРЕВНИ
Сергей Есенин 1895-1925
Монолог Хлопуши из поэмы "Пугачев"
Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!
Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам?
Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.
Я три дня и три ночи искал ваш умёт,
Тучи с севера сыпались каменной грудой.
Слава ему! Пусть он даже не Петр! Чернь его любит за буйство и удаль.
Я три дня и три ночи блуждал по тропам,
В солонце рыл глазами удачу,
Ветер волосы мои, как солому, трепал
И цепами дождя обмолачивал.
Но озлобленное сердце никогда не заблудится,
Эту голову с шеи сшибить нелегко.
Оренбургская заря красношерстной верблюдицей
Рассветное роняла мне в рот молоко.
И холодное корявое вымя сквозь тьму
Прижимал я, как хлеб, к истощенным векам.
Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.
1921
С каким восторгом такое читается, слушается, произносится в молодости! Откуда я знал, что эти красочные пятна прихотливой формы называются "имажинизм", какое мне было до этого дело. Да и Есенину, в сущности, дела не было. В 1919 году он, Рюрик Ивнев, Вадим Шершеневич и Анатолий Мариенгоф объединились в группу имажинистов, собирались в кафе "Домино" на Тверской, потом в "Стойле Пегаса" у Никитских ворот, вели стиховедческие беседы, соревновались в подыскивании корневых рифм. Как резонно пишет Мариенгоф, "формальная школа для Есенина была необходима... При нашем бедственном состоянии умов поучиться никогда не мешает".
Но еще до провозглашения своих имажинистских предпочтений Есенин так и писал. Четверостишие 15-летнего поэта: "Там, где капустные грядки / Красной водой поливает восход, / Клененочек маленький матке / Зеленое вымя сосет". И вымя есть в монологе Хлопуши, цвет не указан, а во второй части — и то же действие, что у клена: "Кандалы я сосал голубыми руками..."
Когда увлеченный самоцельностью образа поэт пользуется словарем не первого порядка, несуразица неизбежна, а в поисках своеобразия непременно появляются излюбленные слова. Если они броские, а имажинист — стихийный или рафинированный — к тому и стремится, лексические любимцы становятся назойливы и конфузны. Впрочем, как говорили во времена моей юности на танцплощадке, каждый понимает в меру своей испорченности. Утешаешься тем, что испорчен не ты один. Все-таки сейчас вряд ли кто рискнет на голубом глазу написать: "И всыпают нам в толстые задницы / Окровавленный веник зари".
С есенинской живописностью мало кто сравнится в русской поэзии. В прозе был в то же время его ровесник Бабель, чья яркость восходит к французской художественной традиции, в противовес русской оттеночности, приглушенности (первые в жизни рассказы Бабель написал по-солнца?"французски, позже провозглашал: "Если вдуматься, то не окажется ли, что в русской литературе еще не было настоящего радостного, ясного описания солнца?"
Есенинские истоки — русские книжные. Известно, что еще в школе он прочел "Слово о полку Игореве", внимательно изучал поэзию Кольцова, Сурикова, Никитина, позже увлекся "Поэтическими воззрениями славян на природу" Афанасьева. Есенин, как Чапаев, языков не знал и не хотел знать: "Кроме русского, никакого другого не признаю, и держу себя так, что ежели кому-нибудь любопытно со мной говорить, то пусть учится по-русски". Это письмо из поездки по Соединенным Штатам с Айседорой Дункан, где, обнаружив, что его никто не знает, пил в отелях и бил по головам фоторепортеров, не сочинив за четыре месяца ни одного американского стихотворения. Европа тоже осталась без поэзии.