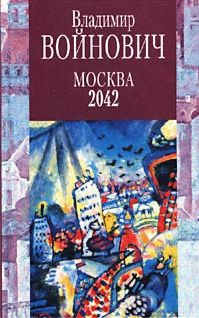Екатерина Мещерская - Китти. Мемуарная проза княжны Мещерской
И тогда я провела рукой по щеке и почувствовала, что она совсем мокрая. В это время на крыльцо вышла мама.
— Валя, Китти! Домой! — кричала она.
Мы вошли в дом. Заперли дверь на деревянный засов и на Два железных крюка, которые еще только вчера навсегда разъединяли нас с внешним миром. Долго не могли мы уснуть в ту ночь, долго прислушивались к малейшему звуку извне. Мы не верили своему счастью: казалось, вот-вот раздадутся знакомые стуки прикладов и Агеев вернется. Однако этого не случилось. Не прошло и двух недель, как в газетах был напечатан указ, подписанный самим Лениным. Он гласил о том, что ни один помещик не имеет права проживать на территории своих прежних земель, даже если бы он поселился в шалаше или вздумал наняться сторожем на общественных огородах. Что же касается домовладельцев в городах, то они тоже не имели права оставаться в своих бывших домах, даже служа в них истопниками и живя в их котельнях.
Наро-Фоминск немедленно прислал нам с нарочным повестку. Мы должны были покинуть Петровское в двадцать четыре часа, в чем мама и должна была расписаться. Теперь уже никто в мире не мог нам помочь.
Куда идти? Где искать приюта? На официальную службу князей не принимали. Чтобы где-нибудь жить, надо было прописаться, а в Москве нас тоже не прописывали.
Мы вполне могли бы прожить, если бы мама вздумала давать уроки, но кто же рискнет приютить нас под своим кровом и нести ответственность за наше неофициальное проживание?
Нас больше всего ранило то обстоятельство, что весть о нашем изгнании облетела уже все Петровское. Мама больше всего на свете боялась возбудить в людях жалость.
И все-таки путь наш лежал в Москву, только в Москву, и никуда больше. Но как уехать? Ведь нам невозможно было даже появиться на нашей платформе! Нас каждый знал в лицо. Увидят, подойдут, окружат. Начнутся «ахи», «охи» и всякого рода соболезнования, а ведь для нас это было хуже смерти.
Тогда у нас возник безумный план: выйти ночью на шоссе с мешками за спиной и прошагать двенадцать верст до Голицына по Александровской железной дороге.
Это решение было безумным, потому что стояла в самом разгаре весенняя распутица. Дороги были полны глубоких луж, грязи, скользких рытвин, и прошагать с непривычки двенадцать верст с тяжелыми мешками за спиной было для нас нелегко. Дело осложнялось еще тем, что у мамы болела нога. Когда она после стирки отправилась на прорубь полоскать белье, то, не имея валенок, надела кучерские сапоги, которые нашла где-то в углу сарая. Она быстро растерла себе ноги до больших водяных пузырей. Одна нога никак не хотела заживать: лопнувший пузырь превратился в кровоточащую рану. Но мама все-таки решила идти… Она надеялась, что дойдет, если возьмет с собой в дорогу палку.
Для этого мы отправились в «Шехеразаду». Там в круглой вертушке для тростей их стояло очень много. Но ни одна из них не годилась для нашего тайного бегства. Их украшали то изящная морда борзой, выточенная из слоновой кости, то смеющийся Мефистофель, то комичная голова негра, то в пестрой чалме красавица турчанка с загадочной улыбкой, то отлитое из серебра изогнувшееся тело обнаженной женщины, то чудесная морда лошади, то позолоченный набалдашник, ослеплявший вас игрой полудрагоценных каменьев. Все это никуда не годилось, так как бросалось в глаза и обращало на себя внимание.
Тогда я отправилась на огород и с большим трудом выбила топором из ограды одну из палок. Немного постругав ее кухонным ножом и отмыв мочалкой в горячей воде с мылом и содой, я высушила ее около печки и с торжеством преподнесла маме. Она была в восторге и часто, много позднее, в нашей жизни вспоминала этот мой первый полезный для нее подарок!..
Я никогда не забуду то утро ранней весны и холодную дымку того рассветного часа, когда мы с мамой, как две странницы, с мешками за спиной вышли на широкое шоссе, ведшее в Голицыно. Казалось, мы оставляем позади все самое дорогое, и оставляем навсегда. Вот маленький мостик. И я увидела, каким простым, широким русским крестом осенила себя мама, проходя мимо петровского храма. Вот налево его высокая колокольня, а за ней — маленькая зимняя церквушка, которую построил мой отец.
Не раз в жизни бывали случаи, когда мама упрекала меня в излишней сентиментальности, и в то утро, когда мы прошли церквушку и очутились на шоссе, мама тихо, но строго сказала, обращаясь ко мне:
— Иди, Китти, и не вздумай оборачиваться…
Мамина суровость была мне мила, я часто гордилась ее сдержанностью, но именно потому, что я предвидела эти ее слова, я с самого начала нашего пути пропустила ее вперед, а сама пошла сзади. Я-то знала, что мама ни за что не обернется, и я не ошиблась. Мама шагала впереди спокойная и, как всегда, необыкновенно прямая, даже несмотря на тяжесть мешка за ее спиной.
Неужели это она, моя мама, эта исхудавшая женщина в маленькой круглой черной каракулевой шапочке?..
Я обернулась. Издалека уже не видно было заколоченных нестругаными досками окон и дверей дворца. Даль сгладила это обезображенное людьми прекрасное здание. Дворец, казалось, стоял во всем своем строгом великолепии, и его серебристый купол чуть-чуть розовел со стороны востока.
Мне вспомнились дни больших приемов в нашем дворце: когда ожидали почетных гостей, то за ними всегда посылали лошадей на Голицыно, так как по Александровской дороге было больше поездов и ходили они быстрее и точнее, нежели по брянской одноколейке.
Поэтому с самых давних пор главный подъезд ко дворцу был со стороны шоссе.
Вспомнила я и приезды гостей: мы, дети, узнавали их по тем лошадям и экипажам, которые за ними высылались.
Самых веселых гостей и гостей на Святках всегда доставляли резвые тройки с заливным звоном бубенцов.
Важные и солидные гости приезжали в экипажах: для особых любителей лошадей высылали лучших кровных рысаков, запряженных либо в английскую упряжку, либо в итальянское «барручино».
За очень пожилыми гостями выезжали старинные кареты, просторные, спокойные, на мягких рессорах.
А наш домашний доктор, иногда приезжавший поздно ночью, любил маленькую венскую карету с двумя зажженными по бокам яркими фонарями. Эта карета имела только одну дверцу с небольшой подножкой, открывавшуюся сзади.
Военные обычно являлись веселой кавалькадой. Верховых лошадей заблаговременно доставлял им в Голицыно наш берейтор манежа.
Так одна картина вслед за другой оживали в моей памяти, и я не видела, какой безрадостной, черной лентой извивалось передо мной шоссе, по которому мы шагали в мокром, тяжелом месиве грязи по самую щиколотку.
— Китти… — Остановившись, мама коснулась моей руки. Я очнулась от воспоминаний. Солнце уже взошло. Подняв голову, улыбаясь, мама смотрела вверх, в небо.