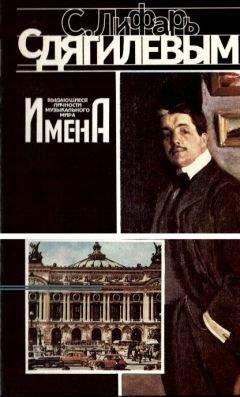Дягилев. С Дягилевым - Лифарь Сергей Михайлович
Личные пристрастия Дягилева нашли себе наибольшее отражение в «Мире искусства» 1898–1899 и 1900 годов и особенно 1898–1899 годов. Я уже говорил о том, что первый двойной номер «Мира искусства» открылся картинами тогдашнего кумира Дягилева – Васнецова (кроме Васнецова там были помещены репродукции с картин и других симпатий Дягилева – Коровина, И. Левитана, Елены Поленовой и С. Малютина, – к Левитану и Малютину, как мы знаем, у Дягилева была особенная слабость, – а также скандинавского художника Эрика Веренскиольда). В следующих номерах мы опять находим печать вкуса Дягилева в помещении репродукций с произведений Левицкого, князя П. Трубецкого, Пюви де Шаванна, Сомова, Бердслея, Врубеля, Петра Соколова. Еще дальше – любимые дягилевские финляндцы и после них К. Брюллов и В. Боровиковский. «Мы ценим Брюллова», – не переставал повторять Дягилев и поместил Брюллова в самом же начале «Мира искусства». В этом, как и в многом другом, сказалась диктаторская самостоятельность Дягилева и его независимость от его «учителя» Александра Бенуа, который недооценивал Брюллова и в том же «Мире искусства» (!) писал, что «Брюллов груб, и если с ним еще не совсем порешили, то благодаря только отсутствию у нас в обществе и даже среди художников любовного и глубокого отношения к искусству».
В своих статьях Дягилев не перестает развивать свои любимые мысли о ценности художественного произведения независимо от того направления, к которому оно принадлежит.
Его широта, настоящая, свободная, независимая широта и его эклектизм основаны на той мудрой истине, которую он возвестил в своем манифесте – в первой статье «Мира искусства»:
«Классицизм, романтики и вызванный ими шумливый реализм – эти вечно сменяющиеся раздробления последней сотни лет – призывали и нас, в нашем новом произрастании, вылиться в одну из украшенных этикеткой форм. И в том и был главный сюрприз и симптом нашего разложения, что мы не выпачкались ни об одну из заваренных и расставленных для нас красок, да и никакого желания к этому не проявили. Мы остались скептическими наблюдателями, в одинаковой степени отрицающими и признающими все до нас бывшие попытки».
Для своей первой руководящей статьи, которою открылся «Мир искусства», Дягилев взял эпиграфом слова Микеланджело: «Тот, кто идет за другими, никогда не опередит их». Эти слова можно взять эпиграфом и для всей художественно-проповеднической деятельности Дягилева. Дягилеву было органически чуждо и ненавистно всякое повторение, всякое подражание, всякое подогревание вчерашнего блюда, всякое топтание на одном и том же месте, и только в этом повторении он и видел настоящий упадок, décadence [29]. Эту мысль об упадке в искусстве Дягилев не переставал повторять с первого («Наш мнимый упадок») и до последнего номера «Мира искусства», она является одной из главных, основных мыслей Дягилева об искусстве.
Защищая современное искусство от обвинений в декадентстве, Дягилев писал: «Отсутствие „упадка“ вовсе не в том, что Репин выше Брюллова (это, к тому же, еще большой вопрос). И Репин и Брюллов были высшими точками напряжения известных художественных идей, они были вершинами, до которых взбирались и с которых затем скатывались и скатываются все, кто идет по их стопам (вот где истинный упадок!). Моллер, Флавицкий, Семирадский – это „упадок“ Брюллова, Савицкий, Пимоненко, Касаткин – „упадок“ Репина. Новое искусство оттого и не есть „упадок“, что оно не идет ни за Брюлловым, ни за Репиным, что они ни хуже, ни лучше Брюллова и Репина. Оно ищет собственного выражения, которое явится в самом ярком его представителе, одном или нескольких.
По абсолютной ценности эпоха „нового“ искусства может даже быть ниже „эпохи классического искусства“ или „социального реализма“, она может не дать таких крупных величин, как Бруни или Репин, – в таком случае ее место в истории культуры будет менее заметно, но все-таки это будет место вполне самостоятельное. Наша эпоха в истории живописи никогда не будет названа эпохой „упадка“, повторявшего чужие мысли, твердившего зады давно и всем известного, – наоборот, за ней всегда останется та заслуга, что она вечно искала своих, новых путей».
Но и в современном искусстве, перед которым он вовсе не преклоняется раболепно, Дягилев не щадит такого упадка, и не щадит не только в дешевом модернизме, но и в тех художниках, которых особенно усиленно пропагандировал «Мир искусства» и сам Дягилев. Так, он писал о разрушительном влиянии «всесильного Мюнхена»: «Как тридцать лет назад Дюссельдорф, художественный центр того времени, сгубил целую массу даровитых людей, обледенил их своим академизмом, издав незыблемые художественные законы, так и нынешний законодатель Мюнхен, как самый яркий выразитель модного западного искусства, то и дело своим влиянием разрушает таланты. Искусство Сецессиона стало самой ужасной рутиной нашего времени, оно дало трафареты, по которым теперь изготовляются тысячи картин. Дешевые эффекты, общедоступное декадентство – все это идет оттуда, и с этим великим злом необходимо бороться».
Из этих мыслей об упадке и трафарете вытекает отрицательное отношение Дягилева и к самоповторениям, самоподражаниям – такой же упадок, такой же трафарет, такое же топтание на месте. Известно, с каким восторгом относился Дягилев к Цорну, Каррьеру, Даньян-Бувре и как высоко их ставил. А в 1901 году, продолжая их высоко ставить, он пишет: «Вы видите эффектный портрет, последнее произведение Цорна, этого большого баловня Парижа. Когда два года назад появилась его голубая „Американка“ с большой собакой – весь Париж бегал ее смотреть, только и было разговоров о Цорне, он был силен, непосредствен, в нем была нотка своеобразной свежести, какой-то нахальный и вместе с тем художественный je-m’en-fich’изм [30]. Все это осталось и теперь – белое шелковое платье, писанное обольстительной кистью великого виртуоза, красный диван, желтый фон new style [31] с японскими деревьями… Женщина чудно усажена на холсте, все красиво в пропорциях и тонах, но под всем этим совершенством каким-то чудом прокрадывается тот неуловимый холодок, который рассказывает нам, что можно всему научиться, что можно знать не только анатомию и рисунок, но даже найти секрет, как придавать себе сильный темперамент, юную наивность, и вообще все те приправы, которые для художника ценнее алмазов. В Цорне… его пыл, его художественный пафос подчас шокирует: теперь это уже не более как подделка, такая же неискренняя, хотя и ловкая, как, например, все последние „туманы“ Каррьера. Каррьер, этот божественный поэт, – этот Роден в живописи – сколько раз заставлял он трепетать перед своими сокровеннейшими матерями и детьми, но к чему же все это опять и опять, и все это уже пожиже, без вдохновения, которое так долго не изменяло ему.
Конечно, каждому дано свое, Рембрандт всегда оставался Рембрандтом и в Леонардо не превращался, но у великих мастеров было одно великое преимущество. Они успели до конца оставаться самими собой и, главное, ухитрялись не подражать себе. Нынче же делается так: Раффаэлли или Каррьер выступают как новые, свежие явления – они „нашли себя“. С этой находкой они носятся затем всю жизнь и в конце концов либо летят в пропасть отчаянной рутины, как Даньян-[Бувре], Ленбах, Цвиль, Менье, Фриан, либо начинают подделываться под самих себя, и выходит не Каррьер, а под Каррьера, не Менар, а под Менара; они держатся всеми силами за раз сделанное открытие, в котором они были действительно и своеобразны и интересны, но увлечения настоящего уже нет, все способы, все нюансы уже испробованы, и вот начинается нескончаемая фабрика Латуша и Кº, на которой делаются отличные вещи и самой высокой пробы. Разве нельзя того же отчасти сказать и про Аман-Жана? Очаровательный портрет Сюзанны Понсе, облетевший уже все издания до обложек включительно, – является, конечно, нотой истинного вдохновения, это настоящий Аман-Жан, женственный, нежный, задумчивый, но к чему же так портить самому себе и где-то внизу выставки, в отвратительном отделе пастелей развешивать целый ряд трафаретов – настоящую фабрику женщин, обернутых в легкие материи на разноцветных фонах – красивые краски обоев из магазина Liberty».