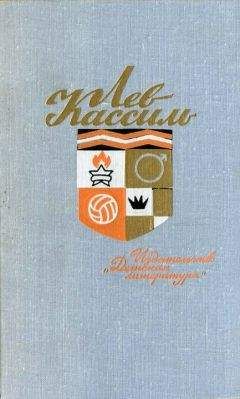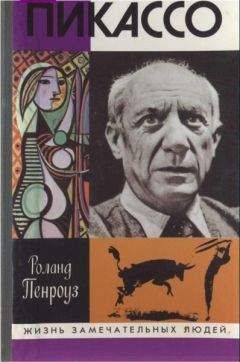Винсент Ван Гог. Человек и художник - Дмитриева Нина Александровна
Терминология разнообразных течений была неустоявшейся и зыбкой. Винсент Ван Гог называл импрессионистов старшего поколения «импрессионистами Большого бульвара», в отличие от младших «импрессионистов Малого бульвара»: Гогена, Бернара, Лотрека, Анкетена, Сёра, Синьяка и других, с которыми у него завязались наиболее тесные отношения. Из «импрессионистов Большого бульвара» он познакомился лично, через посредство Тео, с отцом и сыном Писсарро, с Дега, с Гийоменом. Кроме того, подружился с Джоном Расселом, англичанином, приехавшим из Австралии. Он сблизился с ним, так же как с Лотреком, Бернаром и Анкетеном, в студии Кормона, которую начал посещать с первых же дней.
Об этой студии Винсент был наслышан еще в Антверпене. Тео писал ему, что там есть «способные ребята»; он хотел войти в их общество, а главное — продолжать прерванную в Антверпене работу над антиками и обнаженной моделью. Относительно характера преподавания у Кормона он не питал иллюзий, догадываясь, что это примерно то же самое, что в антверпенской Академии. Но среда и атмосфера здесь были другие — они вынуждали Кормона, типичного академического художника, к большему либерализму. Впрочем, самобытная манера Винсента и тут выглядела ошеломляющей. По воспоминаниям Бернара, Ван Гог «пробыл в мастерской Кормона два месяца и завоевал репутацию заядлого бунтаря. Он писал за один сеанс по три этюда, утопающих в густо наложенной краске, начинал все сначала на новых холстах, рисовал модель во всевозможных ракурсах, в то время как другие ученики, за его спиной насмехавшиеся над ним, тратили по неделе на тупое копирование одной ноги» [22]. Восемнадцатилетний Бернар сам тоже был бунтарем и позволял себе вызывающие проказы — например, раскрасил яркими полосами выцветший серый парус, поставленный Кормоном для натюрморта. Рассерженный Кормон отказался заниматься с Бернаром. Вскоре покинул стадию и Винсент. Тео снял просторную квартиру на улице Лепик и выделил в ней мастерскую, где Винсент мог работать самостоятельно. С Бернаром они остались большими друзьями, несмотря на разницу в возрасте.
Отныне школой Винсента стало общение с парижскими художниками новой формации. Он не выглядел среди них робким новичком-провинциалом, далеко нет. Они сразу почувствовали в нем по меньшей мере равного, хотя и другого. Благожелательный и чуткий Камиль Писсарро познакомил его с «кухней» импрессионизма и пуантилизма, сам же, в свою очередь, был поражен силой нюэненских работ Ван Гога. Позднее Писсарро говорил своему сыну Люсьену: «Я заранее знал, что Ван Гог либо сойдет с ума, либо оставит нас всех далеко позади. Но я никак не предполагал, что он сделает и то и другое» [23].
Отсутствие писем Ван Гога, к сожалению, не позволяет проследить, как происходил процесс сближения его с импрессионизмом и импрессионистами, фиксировать момент перелома — то есть перехода от первого неприятия к сознательному ученичеству. Что ученичество было — бесспорно доказывают парижские пейзажи Ван Гога: некоторые из них могли бы быть написаны Писсарро или Сислеем, некоторые сделаны приемом, очень близким дивизионизму. Что было сначала и неприятие — Ван Гог сам говорил позднее в одном из арльских писем к сестре Виллемине. «Об импрессионистах так много говорят, люди заранее настраиваются на что-то необычайное и, в первый раз увидев их, бывают жестоко разочарованы, находят, что это небрежно, некрасиво, плохо написано, плохо нарисовано, слабо по цвету, незначительно. Таково было и мое первое впечатление в первый раз, когда я явился в Париж…» (п. В-4). Но далее он сравнивает импрессионистов с представителями официального, признанного искусства и пишет: «Эти два десятка художников, которых называют импрессионистами… пишут то, что видят их глаза, гораздо лучше, чем корифеи, имеющие имя и репутацию… В моей собственной работе я руководствовался теми же, что у них, идеями относительно цвета еще в Голландии… Внимание публики — не широкой публики, а тех, кто понимает дело, будет все больше сосредоточиваться на ретроспективных выставках великих ушедших художников и на выставках импрессионистов» (п. В-4) [24].
Во всяком случае, меньше чем через полгода после прибытия в Париж Ван Гог оценил импрессионизм: в письме к Ливенсу (летом 1886 года) говорится: «В Антверпене я даже не представлял себе, что такое импрессионисты; теперь я познакомился с ними и, хотя не принадлежу к их клану, приведен в восторг вещами некоторых из них — обнаженными фигурами Дега, пейзажами Клода Моне». В этом же письме имеется и общая оценка Парижа — очага художественной жизни: «Не забывайте, милый друг: Париж — это Париж. На свете только один Париж, и пусть жизнь в нем нелегка, пусть даже она станет еще тяжелее и трудней, все равно воздух Франции прочищает мозги и приносит пользу, огромную пользу» (п. 459-а).
Подобную же — двойственную — характеристику Парижа он давал и впоследствии, в арльском письме к сестре:
«Не знаю, какое впечатление произведет на тебя Париж. Первый раз, когда я его увидел [25], я особенно почувствовал его печальные стороны, которых потом не мог изгнать из памяти… И это у меня оставалось долго, хотя позже я кончил тем, что понял: Париж — теплица идей, люди там стремятся извлечь из жизни все, что возможно. По сравнению с этим городом все остальные мелки; Париж кажется огромным, как море. Но там всегда оставляют большой кусок жизни. И одно несомненно: там нет ничего здорового. Поэтому, уезжая оттуда, в других местах обнаруживают массу достоинств» (п. В-4).
Неудивительно, что, окунувшись с головой в огромное взбаламученное море Парижа, Винсент пребывал в состоянии предельного напряжения. Множество новых впечатлений обрушилось на него: со свойственной ему обостренной восприимчивостью он откликался на каждое — и с не менее ему свойственной упорной самостоятельностью лавировал между ними, стараясь не потерять себя. «Брать свое там, где его находишь», все мотать на ус и ничему пассивно не подчиняться — так он стремился поступать, но это обходилось ему дорого. Пастельный портрет Ван Гога в профиль, за столиком кафе, сделанный в Париже Лотреком, удивительно тонко схватывает его психическое состояние. Тут он — весь внимание и настороженность, весь — натянутая струна: он подался вперед, слушая невидимого собеседника и напряженно сдерживая собственную реакцию. Перед ним на столе — пустой бокал. О Ван Гоге в Париже Лотрек рассказал этим портретом лучше всяких слов.
Фрагментарные и, как правило, записанные лишь через много лет воспоминания людей, встречавшихся с Ван Гогом в то время, весьма разноречивы: одни утверждают, что он был крайне молчалив, другие — что он был необузданно шумлив и разговорчив. (По всей вероятности, бывало и то и другое.) Во всяком случае, он часто был возбужден. Повышенная возбужденность, выражавшаяся в склонности к шумным спорам и даже ссорам, скорее являлась следствием абсента, которым Винсент в Париже начал злоупотреблять, тогда как раньше не питал пристрастия к алкоголю, а также и следствием начинавшейся болезни. Как бы ни было, никакой серьезной ссоры ни с кем у него в Париже не произошло — напротив, появилось много друзей. Тео впоследствии писал ему в Арль (в связи с ожидаемым приездом Гогена): «Ты можешь, если захочешь, сделать кое-что для меня — а именно, продолжать, как и прежде, сплачивать вокруг нас кружок художников и друзей, на что я один решительно не способен, но что тебе более или менее удавалось с тех пор, как ты приехал во Францию» [26].
Однако в Париже, особенно в первое время, Тео смотрел на дело несколько иначе. Совместная жизнь с братом, после того как они за десять лет виделись лишь считанные разы, оказалась для Тео нелегкой. В письме к сестре, которое Иоганна Ван Гог Бонгер цитирует в предисловии к первому изданию писем Винсента, Тео писал: «Моя домашняя жизнь почти невыносима: никто больше не хочет приходить ко мне, потому что каждое посещение кончается скандалом; кроме того, он так неряшлив, что квартира наша выглядит весьма непривлекательно… В нем как будто уживаются два разных человека: один изумительно талантливый, деликатный и нежный; второй — эгоистичный и жестокосердый!» [27].