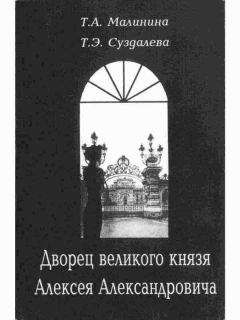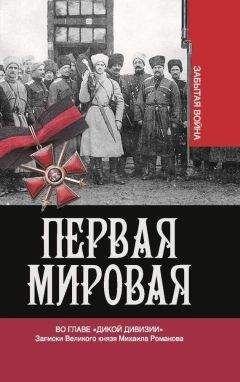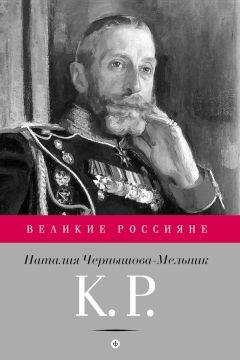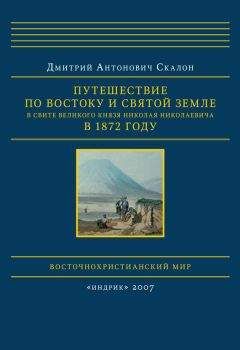Валерий Шубинский - Зодчий. Жизнь Николая Гумилева
Биография поэта излагалась с симптоматичными изъятиями (не упоминалось, в частности, о его участии в Первой мировой войне) и с довольно фантастическими подробностями (Гумилев якобы не только «охотился на львов в Африке», но и «дрессировал крокодилов в Америке»).
Кто был инициатором издания этой книги, мы не знаем, но, по всей вероятности, это были люди, которые видели в войне путь к сокрушению «ненавистного большевизма» и ради этой цели готовы были даже на сотрудничество (пусть временное и лукавое) с оккупантами. Гумилев едва ли одобрил бы их выбор (вспомним его разговор с Одоевцевой о будущей войне). Но среди тех, кто знал и любил его стихи, были и молодые люди, чья позиция в схватке тоталитарных держав была совершенно противоположной. Так, цитатой из «Жирафа» заканчивается одно из стихотворений Павла Когана, чья пресловутая «Бригантина», конечно, восходит к наивному экзотизму «Жемчугов» и «Романтических цветов».
Как свидетельствует автор того же предисловия к одесской книжке, в предвоенной Москве «молодежь разыскивала книги Гумилева. Платили букинистам от 50 до 100 рублей за томик». А после войны, по отзывам мемуаристов, Гумилев был самым популярным (наряду с Есениным) поэтом в лагерях «перемещенных лиц».
Запрет на Гумилева не был снят до 1986 года. Его стихи не только не издавались книгами, но и не входили в антологии[181]. Но его прижизненные сборники беспрепятственно продавались в «Букинистах», и молодые читатели никогда не забывали его. Всплеск интереса к Гумилеву относится к середине 50-х — началу 60-х. Именно в это время среди всего написанного и напечатанного им был выделен просвещенными ценителями поэзии «Огненный столп».
Потом, с «открытием» Мандельштама, Цветаевой, а чуть позже — Ходасевича, Анненского, Кузмина, Гумилев для читателей-профессионалов оказался несколько отодвинут в тень. Это было несправедливо, но исторически обусловлено. Однако более широкий читательский круг не изменил Гумилеву. Этот «широкий читатель» самиздата — младший научный сотрудник какого-то НИИ, школьный учитель, библиотекарь, инженер — продолжал упиваться машинописными копиями «Жирафа» и «Капитанов», а в конце 80-х ринулся раскупать бесчисленные новые гумилевские книги, появившиеся в продаже.
Тот Гумилев, о котором можно прочитать на этих страницах, — другой, гораздо более сложный: мастер, труженик, тайновидец, глубокий и тонкий, хотя и не лишенный слабостей, человек. Но если автор этой книги написал ее, то уж точно не для того, чтобы отнять у сотен тысяч людей их кумира.
У лубочного, но обаятельного «охотника на львов» и у «упрямого зодчего» (двух образов одной и той же личности, ее проекций на разное культурное сознание) есть одна общая черта — способность внушать к себе любовь. Любовь, которая относится не только к стихам, но и к написавшему их человеку.
И автор настоящей книги надеется, что ему простят ее недостатки — потому что только искренняя любовь к поэту двигала его рукой.
Приложение
Из стихотворных откликов на смерть Гумилева
Ирина Одоевцева
Мы прочли о смерти его.
Плакали громко другие.
Не сказала я ничего,
И глаза мои были сухие.
А ночью пришел он во сне
Из гроба и мира иного ко мне,
В черном своем пиджаке,
С белой книгой в тонкой руке,
И сказал мне: «Плакать не надо,
Хорошо, что не плакали вы.
В синем раю такая прохлада,
И воздух синий такой,
И деревья шумят надо мной,
Как деревья Летнего сада…»
Баллада о Гумилеве
На пустынной Преображенской
Снег кружился и ветер выл…
К Гумилеву я постучала,
Гумилев мне двери открыл.
В кабинете топилась печка,
За окном становилось темней.
Он сказал: «Напишите балладу
Обо мне и жизни моей!
Это, право, прекрасная тема».
Но, смеясь, я ответила: «Нет!
Как о вас напишешь балладу?
Ведь вы не герой, а поэт».
Он не спорил. Но огорченье
Промелькнуло в глазах его.
Это было в вечер морозный.
В Петербурге на Рождество…
Я о нем вспоминаю все чаще,
Все печальнее с каждым днем.
И теперь я пишу балладу
Для него и о нем:
Плыл Гумилев по Босфору
В Африку, страну чудес,
Думал о древних героях
Под широким шатром небес.
Обрываясь, падали звезды
Тонкой нитью огня.
И каждой звезде говорил он:
«Сделай героем меня!»
Словно в аду, в пустыне
Полгода жил Гумилев,
Сражался он с дикарями,
Охотился на львов.
Со смертью не раз он встречался
В пустыне, под небом чужим.
Когда он домой возвратился,
Друзья потешались над ним:
«А, Николай Степаныч,
Ну как веселились вы там?
И как поживают жирафы
И друг ваш гиппопотам?»
Во фраке, немного смущенный,
Вошел он в сияющий зал
И даме в парижском платье
Руку поцеловал.
«Я вам посвящу поэму,
Я вам расскажу про Нил,
Я вам подарю леопарда,
Которого сам убил».
Веял холодом страусовый веер,
Гумилев не нравился ей:
«Я стихов не люблю. На что мне
Шкуры диких зверей?»
Когда войну объявили,
Гумилев ушел воевать.
Ушел. И оставил в Царском
Сына, жену и мать.
Средь храбрых он был храбрейшим,
И, может быть, оттого
Вражеские снаряды
И пули щадили его.
Но приятели косо смотрели
На Георгиевские кресты:
«Гумилеву их дать — умора!»
И усмешка кривила рты.
«Солдатские. По эскадрону
Кресты такие не в счет.
Известно, он дружбу с начальством
По пьяному делу ведет!..»
Раз, незадолго до смерти,
Сказал он уверенно: «Да!
В любви, на войне и в картах
Я буду счастлив всегда.
Ни на море, ни на суше
Для меня опасности нет!»
И был он очень несчастен,
Как несчастен каждый поэт.
Потом поставили к стенке
И расстреляли его.
И нет на его могиле
Ни креста, ни холма — ничего.
Но любимые им серафимы
За его прилетели душой,
И звезды в небе пели:
…Слава тебе, герой!..
Елизавета Васильева