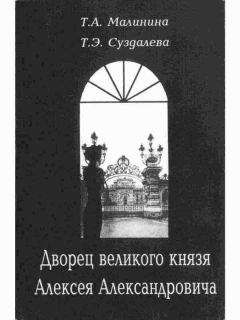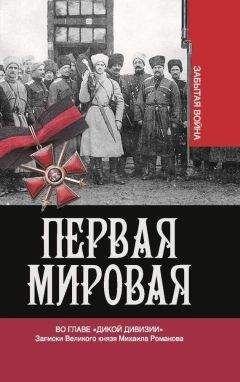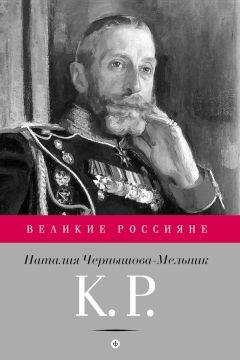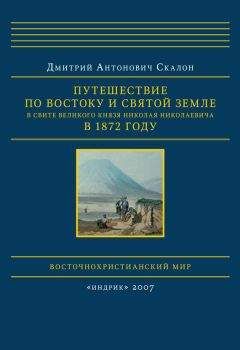Валерий Шубинский - Зодчий. Жизнь Николая Гумилева
См. публицистические опыты Городецкого в 1920 году… Заканчивается стихотворение (вошедшее в цикл «Друзья ушедшие» и напечатанное в 1925 году) риторическим вопросом: «Ужель поэтом не был ты?»
Если тот, кого Гумилев считал своим другом, так отпевал его, то тот, кого Гумилев считал врагом, — Максимилиан Волошин — посвятил памяти Блока и Гумилева свой знаменитый реквием:
Темен жребий русского поэта:
Неисповедимый рок ведет
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского на эшафот.
Но среди тех, кто откликнулся стихами на смерть поэта, были и юноши, никогда в глаза его не видевшие. В их числе — юный Владимир Набоков-Сирин.
Павел Лукницкий. Фотография работы А. А. Ахматовой, 1925 год
Отдельная тема (не для короткого пассажа в заключении к толстой книге, а по меньшей мере для диссертационной работы) — восприятие творчества Гумилева в СССР. До 1925 года его можно было свободно упоминать, хвалить и включать в антологии. Обстоятельства его смерти при этом часто обходили молчанием. Именно в эти годы молодой Павел Лукницкий, никогда не видевший Гумилева вживе, но влюбленный в его героический образ, ничуть не таясь, занимался составлением биографии расстрелянного поэта. Затем, с общим изменением культурной политики, запрет коснулся и стихов Гумилева, и его имени. Но это произошло не сразу. О ситуации тех лет наглядно свидетельствует следующий факт: в «Городе муз» Голлербаха (1927; 2 изд.: 1930) поэту посвящен 12-страничный проникновенный пассаж, но имя Гумилева ни разу на протяжении этого пассажа не названо (хотя помещен его силуэтный портрет)! Однако критики-марксисты, писавшие о книге Голлербаха, Гумилева упоминали свободно. Другой характерный случай — «Стихи о поэте и романтике» (1925) Багрицкого. В первоначальном варианте стихотворения были такие строки (от лица персонифицированной «Романтики»):
Депеша из Питера: страшная весть
О том, что должны расстрелять
Гумилева.
Я мчалась в телеге, проселками шла,
Последним рублем сторожей
подкупила,
К смертельной стене я певца
подвела,
Смертельным крестом его
перекрестила.
При публикации (в 1927-м) Багрицкий вынужден был изменить это место таким образом:
Депеша из Питера: страшная весть
О черном предательстве Гумилева;
Я мчалась в телеге, проселками шла,
И хоть преступленья его
не простила,
К последней стене я певца подвела,
Последним крестом его
перекрестила.
Тому, как можно было тогда говорить и писать о Гумилеве, пример — статья В. Ермилова «О поэзии войны» (в книге «За живого человека в литературе» (М., 1928). Напомним, что автор ее — одна из самых одиозных фигур в истории российской словесности, чуть ли не главный литературный погромщик сталинской эпохи, но при этом личность по-своему незаурядная. В 1928 году Ермилов был молод, напорист, откровенен.
Война для войны, кровь для крови — вот что осталось «конквистадору» наших дней, не понимающему расстановки сил в период капитализма, перешедшего в последнюю — империалистическую — стадию. Идеологом вольнонаемнической интеллигенции, идущей на службу к империалистической буржуазии, той интеллигенции, которая служит сейчас Муссолини… — вот чем объективно становится Гумилев…
Он был одним из тех поэтов, которые чувствуют эпоху… Два слагаемых образуют в своей сумме содержание нашей эпохи. Это — эпоха войн и революции. Второго слагаемого не видел, не чувствовал Гумилев. Он понял нашу эпоху как эпоху войн…
Но у врагов можно многому учиться… И, в частности, у художников империалистической буржуазии должны заимствовать художники советской страны их готовность к войне, их умение находить горячие и пламенные слова для идущих в бой бойцов.
Так советская культура 1920-х годов (еще не впавшая в лицемерие, еще откровенная и потому талантливая в своем культе насилия) вылепила «врага» по своему образу и подобию — и стала у него (не у настоящего Гумилева, а у этого фантома) учиться.
Обложка книги стихотворений Н. Гумилева, изданной в 1943 году в Одессе
Творчество Гумилева и вообще акмеизм интерпретировались в те годы как «поэзия русского империализма». Их появление связывалось (в работах В. Саянова, О. Бескина и др.) с интенсивным развитием капитализма в предвоенные годы, с «третьеиюньским блоком» (широкая правоцентристская коалиция в последней Думе), с милитаризмом и колониализмом. Нельзя не отметить, что первым такую фантастическую интерпретацию предложил не Бескин и прочие вульгарные социологи, не Саянов, а Городецкий в «Лукоморье» в 1916 году. Разумеется, с совершенно иными целями…
Учиться у империалистов технике, в том числе технике стиха, разрешалось. Киплинга переводили и издавали. Гумилев считался «русским Киплингом» — и в этом качестве был актуален. Можно сказать, что в эти годы Гумилева больше и чаще читали в СССР, чем в эмиграции. Однако в середине 30-х тезис об «учебе у акмеистов» был официально осужден, и уж тут Гумилева запретили всерьез и надолго.
Открытка с портретом Н. Гумилева, нелегально напечатанная его поклонниками в 1964 году в Тамбове (тираж 300 экземпляров)
И все же одна его книжка на территории России увидела свет в годы запрета. Книга эта, включавшая избранные стихи разных лет, вышла в 1943 году в Одессе, оккупированной немецкими и румынским войсками. Предисловие к этой книге начиналось так:
Сейчас, когда все подлинно русские люди по ту и по эту сторону фронта с нетерпением ждут гибели ненавистного большевизма, когда приходит время решительной борьбы за Новую Россию, стихи Николая Гумилева звучат для нас с новой силой…
Биография поэта излагалась с симптоматичными изъятиями (не упоминалось, в частности, о его участии в Первой мировой войне) и с довольно фантастическими подробностями (Гумилев якобы не только «охотился на львов в Африке», но и «дрессировал крокодилов в Америке»).
Кто был инициатором издания этой книги, мы не знаем, но, по всей вероятности, это были люди, которые видели в войне путь к сокрушению «ненавистного большевизма» и ради этой цели готовы были даже на сотрудничество (пусть временное и лукавое) с оккупантами. Гумилев едва ли одобрил бы их выбор (вспомним его разговор с Одоевцевой о будущей войне). Но среди тех, кто знал и любил его стихи, были и молодые люди, чья позиция в схватке тоталитарных держав была совершенно противоположной. Так, цитатой из «Жирафа» заканчивается одно из стихотворений Павла Когана, чья пресловутая «Бригантина», конечно, восходит к наивному экзотизму «Жемчугов» и «Романтических цветов».