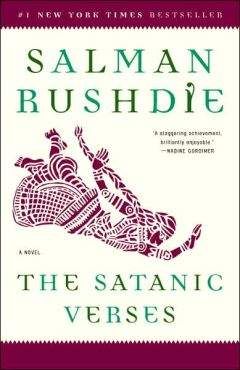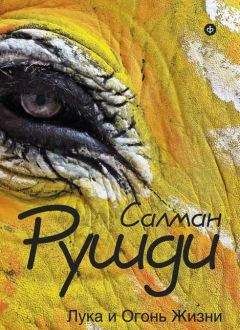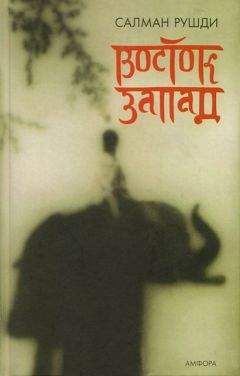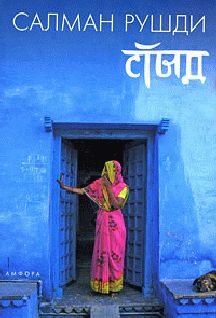Салман Рушди - Джозеф Антон
Он обедал в отеле «Беверли-Хиллз» с Кристофером Хитченсом и Уорреном Битти, большим поклонником Кристофера.
— Должен признаться, — сказал ему Уоррен Битти, — что на днях, когда я увидел вас за ужином в «Мистере Чау», с вами была женщина такой красоты, что я чуть не упал в обморок.
В те дни он доверял ей безоговорочно, поэтому ответил:
— Я ей позвоню. Может быть, она к нам присоединится.
— Скажите ей, будьте добры, — попросил его Битти, — что здесь Уоррен Битти и что на днях он чуть не упал в обморок, сраженный ее красотой.
Когда он позвонил, она ехала в машине и злилась (она терпеть не могла сидеть за рулем).
— Я тут обедаю с Уорреном Битти, — сказал он, — и он попросил меня сообщить тебе, что чуть не упал в обморок, сраженный твоей красотой.
— Заткнись, — отозвалась она. — Мне сейчас не до твоих шуточек.
Но он все-таки убедил ее, что говорит правду, и она присоединилась-таки к ним, причем нарочно не стала наряжаться: явилась в трениках и маечке и, конечно, выглядела при этом вполне способной повергнуть Уоррена Битти в обморок.
— Прошу вас, не пеняйте мне, — сказал ему легендарный любовник, — если я на пять минут потеряю голову из-за вашей дамы. Потом можно будет продолжать обедать.
Он порадовался про себя, что существует Аннет Бенинг[279], а то ведь… ладно, лучше это оставить. Они продолжили обедать, и вопрос был исчерпан.
Теснее всего он сдружился в Голливуде с Кэрри Фишер[280], проницательной и острой на язык, и она высказала ему свои сомнения по поводу Падмы. Она устроила вечеринку, чтобы он мог познакомиться с другими женщинами, и прежде всего с Мег Райан[281], которая ему очень понравилась — даже несмотря на то, что три раза повторила: «Вы знаете, люди так ошибаются на ваш счет!» Но потом разговор зашел о духовной жизни, и Мег рассказала про свои многие посещения индийских ашрамов, призналась, что восхищается Свами Муктанандой и Гурумайи. Это их не сблизило — тем более что он сказал ей в ответ, что скептически относится к индустрии гуру, и посоветовал прочесть книгу Гиты Мехты «Карма-кола».
— Ну почему вы такой циник? — спросила она так, словно действительно хотела знать ответ, и он сказал, что, если растешь в Индии, легко понять, что эти люди обманщики.
— Да, конечно, шарлатанов очень много, — резонно согласилась она, — но ведь можно распознать честных?
Он печально покачал головой.
— Нет, — сказал он. — У меня это не получается.
И на этом их беседа окончилась.
Бесконечные перемещения между Уэст-Голливудом и Пембридж-Мьюз были дьявольски тяжелы, и с разводом, который стал слишком отвратителен, чтобы его описывать, с огромными помехами его общению с маленьким сыном, приводившими его в бешенство, с растущими расходами на ремонт нью-йоркской квартиры, которая оказалась в гораздо худшем состоянии, чем он думал, с переменами в настроении Падмы, столь частыми, что он был счастлив, если между ними все было ладно два дня подряд, — со всем этим ему приходилось иметь дело сквозь тусклую пелену синдрома смены часовых поясов. И однажды в Лос-Анджелесе он услышал весть, которой со страхом ждал не один год. Умер Джон Дайамонд. Он закрыл лицо руками, и когда женщина, говорившая, что любит его, узнала от него, в чем дело, она сказала: «Я тебе сочувствую, но ты переживешь это, я думаю». В такие моменты ему казалось, что он и двух секунд больше не сможет с ней пробыть.
Но он не уходил. Он оставался с ней еще шесть лет. Потом, глядя на те дни лишенными иллюзий глазами человека, пережившего очередной развод, он не вполне понимал свое поведение. Возможно, это был род упрямства; или отказ разрушить связь, ради которой он разрушил брак; или нежелание пробудиться от грезы о счастливом будущем с ней, пусть даже это будущее было миражом. Или, может быть, она, черт возьми, была просто-напросто слишком красива, чтобы уйти.
В то время, однако, у него был более простой ответ. Он остается с ней, потому что любит ее. Потому что они любят друг друга. Потому что у них любовь.
Несколько раз за эти годы они расставались — ненадолго, — причем чаще по его инициативе; но в конце концов он предложил ей выйти за него замуж, и вскоре после свадьбы ушла именно она. Это побудило Милана, который на бракосочетании нес подушечку с кольцами, спросить его: «Как же так, папа? Такой замечательный день ничего не значил?» У него не было ответа. Он чувствовал то же, что и сын.
Были, конечно, и хорошие моменты. Они обустроили себе жилище, любовно украсили его и обставили, как нормальная пара. «Я делала это с тобой любя и чистосердечно», — сказала она ему годы спустя, когда они опять разговаривали, и он ей поверил. Между ними была любовь и вспыхивала страсть, и, когда все было хорошо, все было очень хорошо. Вместе они поехали на Книжный бал в Амстердам, где прошла презентация «Ярости» на нидерландском, и она сразила всех наповал; все были ослеплены ее красотой, в национальной программе новостей кадры ее прилета сопроводили песней Шарля Азнавура «Она прелестна», а затем четверо истекающих слюной критиков обсуждали ее невероятную красоту за «круглым столом». И она лучилась счастьем, обращалась с ним любовно и была ему изумительной подругой. Но такие полосы сменялись другими, мрачными и низменными, которых становилось все больше. Постепенно до него доходило: она проникается по отношению к нему духом соперничества, думает, что он заслоняет собой ее свет. Она не любила играть вторую скрипку. «Не ходи со мной, — сказала она ему незадолго до конца их совместной жизни, когда их пригласили на церемонию вручения кинематографических премий, на которой должны были чествовать его давнюю подругу Дипу Мехту. — Когда мы вместе, люди хотят разговаривать только с тобой». Он заметил ей, что она не может выбирать, по каким дням она замужем, а по каким нет. «Я всегда гордился, что могу быть на людях рядом с тобой, — сказал он, — и мне горько, что ты не чувствуешь того же по отношению ко мне». Но она была полна решимости выйти из его тени, начать самостоятельную игру; и в конце концов она в этом преуспела.
В эпоху ускорения всего и вся газетную колонку невозможно написать даже за два дня до публикации. В тот день, когда ему надо было представить очередную ежемесячную статью для синдиката «Нью-Йорк таймс», он должен был, проснувшись, прочесть свежие новости, понять, чтó сегодня волнует людей сильнее всего, подумать, чтó он по праву может сказать на ту или иную из этих тем, и написать тысячу слов самое позднее к пяти вечера. Злободневная журналистика — совсем другое ремесло, нежели писательство, и он освоил это ремесло не сразу. С какого-то момента необходимость думать так быстро начала бодрить его, веселить. К тому же он стал ощущать себя привилегированным человеком, членом комментаторской элиты — узкой группы колумнистов, которой дано право формировать мировое общественное мнение. К тому времени он уже понял, как это трудно — иметь мнения, особенно такие, которые «идут в дело» в таких колонках: резко очерченные мнения, подкрепленные сильными доводами. Он не без труда «выдавал на-гора» одно такое мнение в месяц и испытывал поэтому священный трепет перед коллегами — Томасом Фридманом, Морин Дауд, Чальзом Краутхаммером и другими, — у которых могло возникать по два подобных мнения каждую неделю. Он сочинял колонки третий год и уже написал об антиамериканизме, о Чарлтоне Хестоне[282] и Национальной стрелковой ассоциации, которую он возглавлял, о Кашмире, о Северной Ирландии, о Косово, о нападках на преподавание теории эволюции в Канзасе, о Йорге Хайдере, об Элиане Гонсалесе[283] и о Фиджи. У него создалось впечатление, что запас тем, рождающих у него сильные чувства, иссякает, и он сказал Глории Б. Андерсон из синдиката «Нью-Йорк таймс», что, возможно, в скором времени откажется от колонки. Она энергично его уговаривала. Некоторые его колонки, сказала она, произвели сильное впечатление. В начале 2000 года он написал, что «борьба, которая определит лицо новой эпохи, будет идти между Терроризмом и Безопасностью». Он из тех людей, заметила она ему, кто может говорить об этом со знанием дела, и если он был прав — а она в этом уверена, — то, по ее словам, «новости на темы, по которым вам есть что сказать, будут появляться, и людей будет интересовать ваше мнение».