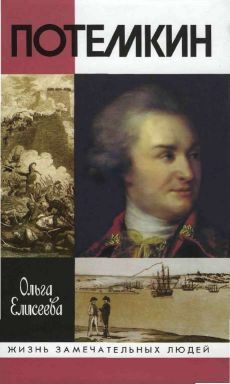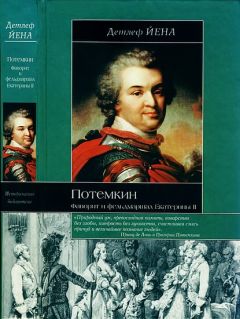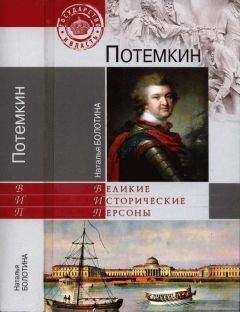Ольга Елисеева - Потемкин
После смерти князя в армии распространились слухи о его отравлении. Убийцами называли Зубовых[1809]. В появлениях такой версии нет ничего необычного, так как подобные легенды часто сопровождают уход из жизни крупных исторических деятелей[1810]. В конце лета — начале осени Потемкин действительно страдал от сильного приступа лихорадки. Однако не следует забывать, что годом раньше Екатерина прямо предупреждала своего корреспондента о возможной попытке берлинских политиков отравить его. Признание же Платона Зубова, сделанное через 30 лет после смерти князя, о том, что молодому фавориту необходимо было устранить Потемкина со своего пути, выглядит очень двусмысленно. Нежелание светлейшего князя принимать во время болезни лекарства может быть истолковано и как недоверие к окружавшим Потемкина врачам[1811].
С середины сентября собственноручные письма Григория Александровича становятся все короче и редко превышают одну страницу. Князь извиняется, что вынужден диктовать важные документы с описанием переговоров секретарю. «Ей-богу, не смогу написать, так голова слаба, — жаловался он 16 сентября. — Такого году никогда не бывало. Все немогут. Дом мой похож на лазарет»[1812]. 21 сентября Григорий Александрович был уже не в силах написать более пяти строк, почерк его резко ухудшился, а вместо подписи рука машинально вывела кривую линию[1813].
30 сентября, поздравляя Григория Александровича с именинами, Екатерина писала: «Христа ради, ежели нужно, прими, что тебе облегчение, по разсуждению докторов, дать может; да приняв, прошу уже и беречь от пищи и питья, лекарству противных». Откуда императрица знала, что Потемкин избегает предписанных докторами лекарств? Из ставки ей сообщал о самочувствии князя Попов[1814], но, возможно, были и другие лица, информировавшие Екатерину. «Платон Александрович… весьма тужит о твоем состоянии»[1815], — замечала императрица. В этот день она послала князю в подарок «шубейку», которую ему не суждено было получить.
Потемкин сознательно готовился к смерти. В Яссах он составил «Канон Спасителю», который впоследствии был найден в бумагах Самойлова и опубликован П. И. Бартеневым. Перед тем как поместить «Канон» в печать, издатель — человек верующий — показал его «некоторым духовным лицам», чтобы узнать, «не встретится ли чего… противного церковному обычаю», и получил благословение на публикацию. Канон состоял из девяти песен, или ирмосов. «Само собой разумеется, — замечал Бартенев, — что в „Каноне“ много взято из общих церковных молитвословий». Они сами собой ложились на язык князю, отливая его скорбь и надежду в знакомые с детства слова.
Однако многое в «Каноне» — собственное, потемкинское, выражающее его личные страдания и покаяние. Это очень красивое песнопение, по которому можно судить об одаренности князя в такой сложной области, как литургика. Но еще важнее то непосредственное живое чувство, с которым написан текст.
«…Проснися, душа моя, от сердечного твоего ожесточения. Се уже при дверех Жених! Где твой светильник? Угас! Бежи возжещи его! Но дверь между тем затворяется, и ты лишаешься брачныя вечери. Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Виждь, Господи, смирение мое, виждь сокрушение сердца моего! У Тебя единого очищение, у Тебя избавление есть. Помилуй недостойное Твое создание и не допусти до пагубы душу мою…
…Приими слез моих пролитие за вину грехов моих. Се Тебе приносится, Спасителю Мой, вместо мира многоценного, излитаго грешницею на пречистыя ноги Твои. Едино слово Твое довольно было к очищению грехов ея; рцы ж и Ты душе моей: Спасение твое есмь Аз. Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
…Се стоит пред Тобою, Владыко, прах создания Твоего; се страждет душа его; суди Ты ее, Избавитель. Аз согреших пред Тобою, яко человек, но не воздех руки моя к иному Богу, яко Ты един еси свят и праведен…
…Не постыди меня, Боже мой, в день Страшного суда Твоего перед ангелы твоими. Вем, что тамо дела мои меня изобличат, отошлют в тьму кромешную, но за веру твердую мою к Тебе, Господи, ожидаю милосердия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Не устрашает меня столько пламень муки вечныя, не ужасает меня червь оный неусыпающий и скрежет зубов, сколько трепещет дух мой и мучится совесть моя о лишении благости Твоея, Господи…
Страшусь, Господи, призвати Тебя в храм души моея; но, видя Твое снисхождение над грешниками, с коими Ты не возгнушался совечеряти в дому Симона Прокаженнаго, отверзая душу и сердце мое, прошу, яко оный Евангельский муж, единаго слова Твоего к избавлению моему, и хотя не есмь достоин, но Ты един властен освятить и очистить мя, да под кров внидеши души моея…
Страшно впасти в руки Бога живаго; но нет отчаяния в милосердии Его. Сам велишь Апостолу Своему прощати вину седмь раз седмирицею. Како же от самого Бога истиннаго милосердия не ожидать! Верно слово: идеже умножится грех, тамо преизобилует Божия благодать. Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
…В сем мире подвержена скорби и болезни жизнь моя, а в будущем, не вем еще, что обрящу по делом моим…
Верую, Господи, что уготовано от Тебя праведному и грешному, но от перваго пути далече совратихся, а последнему всегда предшествую; яко человек хощу взойти на истинный путь, но житейское попечение оный заграждает. Кий суд будет мне, зачатому во гресех, и кто пощадит душу мою, аще не Ты, Спаситель мой?»[1816]
Эти слова прекрасно отражают состояние человека, пребывавшего на пороге смерти одновременно в страхе и надежде. Душа князя трепетала гнева Божия и уповала на Его милосердие.
25 сентября Потемкин уже не смог сам написать Екатерине и продиктовал несколько строчек Попову[1817]. Перед смертью Григорий Александрович жалел об одном: «Матушка родная, жизнь, мне больше тяжело, что тебя не вижу»[1818]. Приближенные князя свидетельствовали, что в Яссах он чувствовал себя еще хуже, чем в Галаце. То переезжал в деревню, то возвращался, словно не находя себе места, и, наконец, приказал собираться в Николаев[1819]. 4 октября Потемкин продиктовал Попову свое последнее письмо к Екатерине: «Матушка, всемилостивейшая государыня, нет сил более переносить мои мучения, одно спасение остается — оставить сей город, и я велел себя вести к Николаеву. Не знаю, что будет со мною». После слов «вернейший и благодарнейший подданный» секретарь оставил место для подписи, но вместо нее князь вывел нетвердой рукой: «одно спасение — уехать»[1820].
Это письмо было получено Екатериной уже после смерти Потемкина 5 октября. Последние часы светлейшего описал С. Н. Глинка со слов своего дяди Гр. Б. Глинки, служившего при князе и бывшего очевидцем его кончины. «Прощаясь с Поповым, он так крепко стиснул ему голову, что любимец невольно вскрикнул. Князь улыбнулся, а Попов с восторгом рассказывал, „что еще есть надежда, что у князя еще не пропала сила“. В числе провожатых была племянница его графиня Браницкая. Проехав верст шестнадцать, остановились на ночлег. В хате Григорию Александровичу стало душно. Нетерпеливою рукою стал он вырывать оконные пузыри, заменявшие в тамошних местах стекла. Племянница уговаривала, унимала, дядя продолжал свое дело, ворча сквозь зубы: