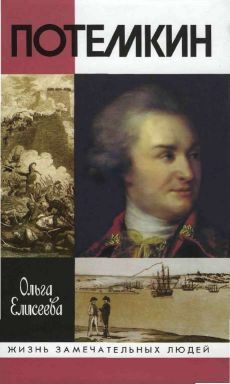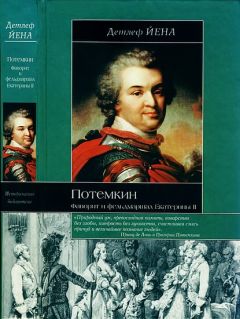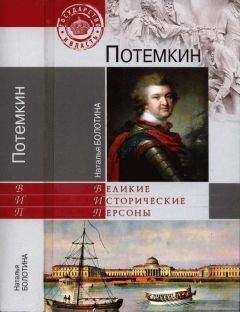Ольга Елисеева - Потемкин
15 августа из Галаца Потемкин написал Екатерине о начале переговоров с драгоманом великого визиря и впервые всерьез пожаловался на свою болезнь: «Я болен крайне, и ежели обратится моя лихорадка в гнилую горячку, что здесь обыкновенно, то уже не в силах буду выдержать. Принц Виртимбергский скончался, и я, на выносе его будучи, занемог… Место тут нездорово, так что почти все люди перенемогли»[1799].
Принц Карл Виртимбергский скончался в Галаце 11 августа. После отпевания покойного Потемкин вышел из церкви в глубокой задумчивости, кликнули его карету, но вместо нее к крыльцу по ошибке подъехали гробовые дроги[1800]. Это происшествие произвело на князя тягостное впечатление и укрепило его в мрачных предчувствиях, появившихся еще в Петербурге. «Непонятно от чего пришло ему в мысль странное воображение, — писал Самойлов, сопровождавший дядю в столицу, — что он доживает свой век… Чтоб рассеять мысль о близкой кончине, он вымышлял заниматься увеселениями, но сие, равно как и занятие делами государственными, не уничтожало в князе Григории Александровиче скучных предчувствий и погружало его нередко в задумчивость неразвлекаемую»[1801].
Перед отъездом из Петербурга Потемкин приехал проститься со своей давней подругой Натальей Кирилловной Загряжской, дочерью гетмана Разумовского. Они были душевно близки, и обеспокоенная его судьбой дама сказала: «Ты не поверишь, как я о тебе грущу… Не знаю, куда мне будет тебя девать… Ты моложе государыни, ты ее переживешь; что тогда из тебя будет? Я знаю тебя как свои руки: ты никогда не согласишься быть вторым человеком». Князь задумался и сказал: «Не беспокойся: я умру прежде государыни; я умру скоро». «Уж я больше его не видала»[1802], — заключала свой рассказ А. С. Пушкину старуха Загряжская. Все мемуаристы, писавшие о предчувствиях Потемкина, отмечают не тоску и страх, а задумчивость и грустное спокойствие князя. Он вел себя так, точно доделывал важную работу, не закончив которой, не мог уйти.
Поразительно, что при такой глубокой внутренней уверенности в своей скорой смерти Потемкин начал переговоры с твердостью и изворотливостью. Почувствовав неуступчивость турок, князь сделал вид, что собирается уехать, но перебрался лишь из Галаца в Яссы, куда за ним последовали турецкие чиновники. Испуганный возможностью разрыва визирь изменил тон, просил извинений, согласился признать требования русской стороны, прислал новых полномочных представителей и сообщил о решении казнить драгомана, виновного якобы в неверной трактовке его приказаний, но Потемкин просил о помиловании турецкого дипломата[1803].
Между тем Григорию Александровичу становилось хуже. «Я во власти Божией, но дело Ваше не потерпит остановки до последней минуты. Не беспокойтесь обо мне»[1804], — писал он Екатерине 6 сентября.
Могла ли императрица не беспокоиться? Ее ответное письмо от 28 августа полетело на Юг в тот же день, когда были получены известия от Потемкина. Такая поспешность со стороны корреспондентки была в последнее время редкостью. Она одобряла все действия Потемкина на переговорах, но казалось, не могла ни о чем думать, кроме его болезни, и буквально через строку возвращалась к этой мысли. «Друг мой сердечный, князь Григорий Александрович, — говорила Екатерина, — письма твои от 15 августа до моих рук доставлены, из коих усмотрела пересылки твои с визирем, …но о чем я всекрайне сожалею и что меня же столько беспокоит, есть твоя болезнь, и что ты ко мне о том пишешь, что не в силах себя чувствуешь оной выдержать. Я Бога прошу, чтоб он от тебя отвратил сию скорбь, а меня избавил от такого удара, о котором и думать не могу без крайнего огорчения. О разогнании турецкого флота здесь узнали с великою радостью, но у меня все твоя болезнь на уме… Прикажи ко мне писать кому почаще о себе. Означение полномочных усмотрела из твоего письма, все это хорошо, а худо то только, что ты болен. Молю Бога о твоем выздоровлении»[1805].
Императрица была явно испугана. 29 августа, то есть на следующий день после получения известий о болезни князя, Храповицкий отмечал в записках: «Ездили в Невский монастырь ко всенощной; дано в церковь большое серебряное паникадило, к раке св. Александра Невского золотая лампада, сверх того сосуды золотые с антиками и брильянтами»[1806]. Обращают на себя внимание не только время поездки и особое богатство вклада, но и тот факт, что Екатерина решила пожертвовать столь любимые ею антики. Камер-фурьерский журнал показывает, что во все последующие дни в дворцовой церкви не прекращались богослужения[1807].
Что же заставляло императрицу так бояться за судьбу князя? Потемкин болел часто: кочевая жизнь, постоянное перенапряжение сил, рецидивирующая лихорадка исподволь подтачивали его могучее здоровье. Дважды: в 1783 и 1787 годах — он находился на краю могилы. В начале войны, когда смерть подкралась совсем близко, Григорий Александрович писал Екатерине куда менее сдержанные письма. Императрица беспокоилась за него до приступов бессонницы, но все же была далека от поездок по монастырям и богатых вкладов. Почему же именно в конце лета 1791 года Екатерина оказалась так встревожена?
Возможно, она знала о предчувствиях князя. Уже после смерти Потемкина императрица писала Гримму: «С летами и опытом он исправился от многих своих недостатков. Три месяца тому назад, когда он приехал сюда, я говорила генералу Зубову, что меня пугает эта перемена и что я не вижу в нем его прежних недостатков, и вот, к несчастью, мои опасения оказались пророчеством»[1808]. Однако Екатерина не была ни мнительна, ни суеверна. В письмах к Потемкину она не раз потешалась над невежеством турок, рассказывавших о чудесах и видениях в осажденных русскими войсками городах, а ее послания к Гримму полны колких замечаний по поводу мистических настроений Фридриха-Вильгельма И. Для того чтобы испугать императрицу, нужна была реальная угроза.
После смерти князя в армии распространились слухи о его отравлении. Убийцами называли Зубовых[1809]. В появлениях такой версии нет ничего необычного, так как подобные легенды часто сопровождают уход из жизни крупных исторических деятелей[1810]. В конце лета — начале осени Потемкин действительно страдал от сильного приступа лихорадки. Однако не следует забывать, что годом раньше Екатерина прямо предупреждала своего корреспондента о возможной попытке берлинских политиков отравить его. Признание же Платона Зубова, сделанное через 30 лет после смерти князя, о том, что молодому фавориту необходимо было устранить Потемкина со своего пути, выглядит очень двусмысленно. Нежелание светлейшего князя принимать во время болезни лекарства может быть истолковано и как недоверие к окружавшим Потемкина врачам[1811].