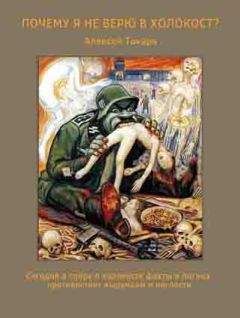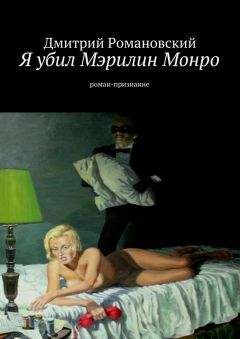Валентин Бережков - С дипломатической миссией в Берлин
— Дискуссию об этом я вести не могу, — заявил чиновник протокольного отдела, — я лишь передал то, что мне поручено. Должен также сказать, что германское правительство конфисковало в качестве военных трофеев все советские суда, оказавшиеся в германских портах.
Я поинтересовался, о каком числе кораблей идет речь.
— Точно не знаю, — сказал он и тут же, злорадно улыбаясь, добавил: — Кажется, в советских портах нет ни одного германского судна…
Впоследствии, уже вернувшись в Москву, мы узнали, что 20 и 21 июня германские суда, стоявшие в советских портах Балтийского и Черного морей, в срочном порядке, даже не закончив погрузки, ушли из советских территориальных вод.
А у нас на это не обратили внимания. Недавно мне стало известно об одном факте, который объясняет, почему так случилось. Буквально накануне войны в Рижском порту скопилось более двух десятков немецких судов. Некоторые только что начали разгружаться, другие еще не были полностью загружены, но 21 июня все они стали сниматься с якоря. Начальник Рижского порта, почувствовав недоброе, задержал на свой страх и риск немецкие суда и немедленно связался по телефону с Москвой. Он сообщил о создавшейся зловещей ситуации в Наркомвнешторг и попросил дальнейших указаний. Об этом было сразу же доложено Сталину. Но Сталин, опасаясь как бы Гитлер не воспользовался задержкой нами немецких судов для военной провокации, распорядился немедленно снять запрет на их выход в море. Видимо, по той же причине не было дано и соответствующих указаний капитанам советских судов, находившихся в германских портах.
Но вернемся к разговору на Вильгельмштрассе. Реакция всех наших дипломатов, когда они узнали о предложении гитлеровцев, была единодушной: мы решили категорически отклонить обмен на равное число лиц. При следующей встрече в министерстве мне было поручено заявить, что мы решительно настаиваем на том, чтобы всем советским гражданам было разрешено покинуть Германию. Лица, интернированные вне германской столицы, должны быть доставлены в Берлин и переданы нашему консулу.
На протяжении нескольких дней оставалось невыясненным, какая страна будет представлять интересы Советского Союза в Берлине. Между тем нельзя было терять времени, так как мы прекрасно понимали, какая трагическая судьба постигнет советских граждан, если им не удастся вернуться на Родину вместе с дипломатическим составом посольства. Надо было все же найти путь для связи с Москвой.
У некоторых из сотрудников посольства были среди немецких антифашистов хорошие друзья. Через них можно было передать информацию о создавшемся положении советскому посольству в какой-либо нейтральной стране. Но как это осуществить? Ведь теперь посольство было наглухо отрезано от внешнего мира. Ни одному человеку не разрешалось выйти за ворота. А за мной неотступно следовал обер-лейтенант Хейнеман, да и вообще я мог выезжать из здания только по вызову с Вильгельмштрассе.
Мы долго ломали себе голову над тем, каким образом кто-либо из нас мог бы прорваться сквозь цепь эсэсовцев, окруживших здание посольства. Разведав обстановку, мы убедились, что попытка выбраться из посольства тайком, под покровом ночи, тоже не сулит успеха. К вечеру охрана усиливалась и фасад здания ярко освещался прожектором. За стеной дома, примыкавшего к зданию посольства с противоположной стороны, также патрулировали эсэсовцы с овчарками. Но все же надо было найти какой-то выход…
Эсэсовский офицер помогает большевикам
Обер-лейтенант войск СС Хейнеман был высокий, грузный и уже немолодой человек. Он оказался на редкость разговорчивым. На второй день нашего знакомства я уже знал, что у него больная жена, что брат его служит в охране имперской канцелярии, а сын Эрих заканчивает офицерскую школу, после чего должен отправиться на фронт: оказывается, это не очень-то устраивает Хейнемана, и он просит брата пристроить молодого Хейнемана где-нибудь в тылу.
Такие разговоры эсэсовского офицера, да к тому же еще и начальника охраны, с работником посольства в условиях войны несколько настораживали. Не хотел ли Хейнеман спровоцировать нас на доверительный разговор? А может быть, он в глубине души не относится к нам враждебно и — кто знает — возможно, даже готов нам помочь? Во всяком случае стоило к нему повнимательнее присмотреться. Посоветовавшись, мы решили, что нужно попытаться наладить «дружеские» отношения с Хейнеманом, проявляя при этом величайшую осторожность, так как любой неверный шаг мог бы лишь осложнить положение посольства и дать повод гитлеровцам для провокации.
Как-то вечером, когда Хейнеман, обойдя вверенный ему караул, зашел в посольство спросить, не хотим ли мы что-либо передать на Вильгельмштрассе, я пригласил его отдохнуть в гостиной.
— Не согласитесь ли немного перекусить, — обратился я к Хейнеману. — За день вы, верно, устали, да и после обеда прошло много времени.
Хейнеман сперва отказывался, ссылаясь, что это не положено при несении службы, но в конце концов согласился поужинать со мной.
В тот вечер у нас завязалась довольно откровенная беседа. После нескольких рюмок Хейнеман стал рассказывать, что, по сведениям его брата, в имперской канцелярии Гитлера весьма озабочены тем неожиданным сопротивлением, на которое германские войска наталкиваются в Советском Союзе. Во многих местах советские солдаты обороняются до последнего патрона, а затем идут врукопашную. Нигде еще за годы этой войны германские войска не встречали такого отпора и не несли таких больших потерь. На Западе, продолжал Хейнеман, все обстояло совсем по-другому — там была не война, а прогулка. В России — не то, и даже в имперской канцелярии кое-кто начинает сомневаться, стоило ли начинать войну против Советского Союза.
Это уже походило на оппозицию, чего никак нельзя было ожидать от эсэсовского офицера. Может быть, подумалось мне, Хейнеман не до конца отравлен нацистским фанатизмом? Не скрывал мой собеседник и того, что в связи с сообщениями с Восточного фронта его особенно беспокоила судьба сына.
— Если его отправят на Восточный фронт, — несколько раз повторил Хейнеман, — мало шансов, что он выберется оттуда живым…
Будучи все еще не уверен в Хейнемане, я молча слушал. Лишь когда он заговорил о своем сыне, я заметил, что этой войны могло бы вообще не быть и что тогда был бы в безопасности не только его Эрих, но была бы сохранена жизнь многим другим немцам.
— Вы совершенно правы, — ответил Хейнеман, — зачем эта война?
Наш ужин продолжался около двух часов, и у меня с Хейнеманом установился контакт.