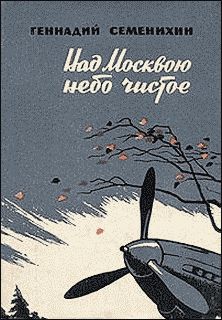Геннадий Семенихин - Послесловие к подвигу
Потом эту трубку в обломках его разбившегося истребителя нашел Сережа Плотников и вернул уже в госпитале во время своего единственного, первого и последнего визита. Брал её в руки и веселый интендант Птицьгн и, возвращая, сказал: "Хороша, едят тебя мухи с комарами". Федор заботливо обернул её носовым платком и спрятал в карман грубошерстных брюк немецкого покроя. "Нет, дорогие друзья, погибшие и сражающиеся, - прошептал он грустно, никто из вас не имеет права сказать, что майор Нырко когда-нибудь может дрогнуть перед врагом. Никто!"
15
Рано утром неожиданно появился полковник Хольц.
В последнее время он всегда появлялся неожиданно. Потолкается в учебном центре несколько часов, забежит в ресторанчик чего-нибудь наскоро перехватить и гак же внезапно, как и появился, исчезнет. Сейчас он был в новом парадном мундире с ярко начищенными пуговицами, и на обычно худощавом лице сияла откровенная радость.
- О, дорогой господин Нырко, пока вы безмятежно спали, солдаты вашего гарнизона за одну ночь построили трибуну на целых двести персон. Послезавтра под ажурным тентом на новеньких скамеечках будут скдэть самые почетные гости, в том числе и ближайшие помощники министра авиации.
- Ив честь чего все это произойдет? - деликатно улыбнулся Федор.
- Мы будем проводить большой праздник по случаю выпуска первой группы пилотов, состоящей из румын, немцев и итальянцев. Так сказать, символ того, что вся Европа сражается против большевизма. Не буду от вас скрывать, начинается наше генеральное наступление на юге России, и этому отряду летчиков предстоит сражаться у Волги, сопровождать могучие колонны наших "юнкерсов", которые будут бомбить Сталинград, - захлебнулся Хольц. - Но это ещё не все, господин Нырко. Я не сказал самого главного. Вам доверяется, как лучшему инструктору, открыть пилотажем этот праздник.
- И мне на этот раз зальют горючего в баки больше, чем на тридцать минут полета? - издевательски спросил Федор.
Хольц поморщился.
- О, господин Нырко, это была недопустимая выходка, к которой я не имею никакого отношения, и ещё накажу виновных! - воскликнул он с фальшивым возмущением. - Но давайте забудем... Вы покажете мастерский пилотаж, а потом после завершения праздника, вам на этой только что построенной трибуне будет торжественно присвоено звание капитана люфтваффе.
- Неужели! - воскликнул на самом деле удивленный Федор, и вдруг широкая ликующая улыбка появилась на его лице.
- Рады? - всмотрелся в него холодными серыми глазами Хольц.
- Так ведь ещё бы! - взмахнул руками Федор. - Звание капитана... это же новенькая форма, да и окляд побольше, чем я получаю. Ведь так же, Вернер? - Ок давно уже усвоил, что в тех случаях, когда называет Хольца по имени, тот сразу добреет.
- О да, Федор! - воскликнул он и сейчас. - Я вижу, в вас просыпается настоящий эпикуреец. Еще немножко внимания. Сегодня вы отдыхаете, завтра весь день готовитесь к полету, послезавтра в десять ноль-ноль полет... а дальше почести.
- Послушайте, Вернер, - не переставая улыбаться, обратился к нему Нырко, - а нельзя ли мне сегодня часика на три уехать на прогулку в город. От нашей проходной до его центра каких-нибудь двадцать минут езды на трамвае. К ужину буду у себя дома, как штык.
Хольц сунул руки в карманы парадного кителя, игриво прищурился.
- О! Я вижу, господин эпикуреец хочет познакомиться с хорошенькой медхен или молоденькой фрау?
- Главным образом прогуляться по центру, но ваше предположение не исключается, - подтвердил Нырко.
Хольц склонил в знак одобрения лысеющую голову.
16
На конечной остановке Федор вышел из старенького желтого трамвайчика, расписанного готическими буквами. Лозунги призывали немцев любить фюрера, ожидать скорой победы и отдавать все возможное героям Восточного фронта. В этот послеобеденный час погода резко испортилась, над серыми домами и лабиринтами узко сплетавшихся улочек висело низкое небо, ронявшее капли дождя. В самом центре городка на чахлой башенке мок облезлый железный петух, видимо относившийся к памятникам старины. Большие часы с заржавелыми стрелками на ратуше медленно отсчитали три удара.
Федор куда глаза глядят брел по центральной части города и думал: "Черт побери, кажется, мне наконец улыбнулась судьба за долгие месяцы плена. Но ведь если я сделаю это, они же вытопчут мое имя, сотрут всякое воспоминание обо мне в порошок, и никто из моих родных и близких - ни Лина, ни отец с матерью, ни Витька Балашов никогда не узнают о последних минутах жизни майора Красной Армии Федора Васильевича Нырко". Он остановился и сам себя строго спросил: "А для чего тебе это, собственно говоря, нужно? Тщеславие?
Стремление, чтобы тебе отгрохали где-нибудь мемориальную доску? - И тотчас же ответил: - Нет. А честь командирская? Разве она не требует, чтобы о тебе, сыне земли советской, все знали? Разве не так? Какое же в этом тщеславие? Ведь если надо, готов я навечно остаться в звании неизвестного солдата. И все-таки как будет тоскливо оттого, что никто из близких тебе людей может никогда не узнать о том, что произойдет скоро. Если бы он имел возможность кому-нибудь довериться! Но разве легко сейчас, когда у немцев уже остыла боль от поражения под Москвой и они готовятся к новому броску на восток, мечтая о выходе на Волгу, найти в этом тыловом городе единомышленника?" Вот на перекрестке стоят два почтенных поседевших чиновника в черных шляпах и черных плащах. У одного зонтик, и он что-то им чертит на асфальте. Зонтик, словно карандаш в руках полководца, намечающего на карте направление главного удара.
Жесты у них широкие, уверенные. Они говорят громко!
а голоса пропитаны радостью. Задержав шаг, Федор прислушался. Обладатель зонтика гортанным голосом восклицал: "О! Это колоссально! Провидение фюрера - это счастье немецкой нации. Теперь бросок к Волге отрежет юг Советской России от её центральной частя". Его собеседник, видимо далекий от столь высоких категорий, бубнил о посылке, которую ему прислал именно из тех районов племянник Отто. "Сало! - восклицал он. Роскошное сало. Это нечто необыкновенное". Федор с тоской подумал: "Откройся одному из таких и через пятнадцать минут будешь в гестапо".
А вот быстро шагает, почти бежит, пожилая очень худая женщина в ветхом пальто с грустным изможденным лицом. В руках корзинка, а в ней, по всей вероятности, скудный паек на большую полуголодную семью, где только старики и дети, потому что молодых сыновей давно уже забрал вермахт, погнал завоевывать жизненное пространство. Поделись с такой, и она в ужасе бросится, не оглядываясь, бежать, лишь бы поскорее исчезнуть из глаз опасного собеседника.