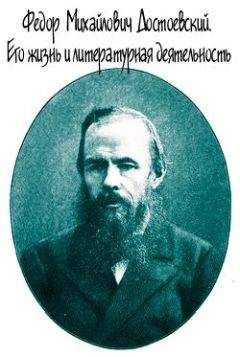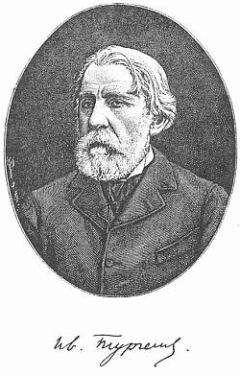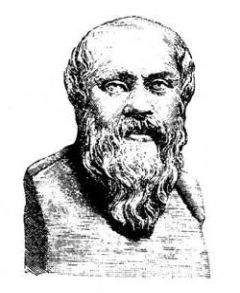Евгений Соловьев - Георг Гегель. Его жизнь и философская деятельность
Повторяю: непонятное для нас, практически мыслящих и чувствующих людей, и составляет индивидуальность Гегеля. Поставьте на его место живого, страдающего страданьями ближних своих человека, и он сразу перевернет всю систему не в ее диалектических основаниях – это и Гайм может сделать, – а в ее практических всегда примиряющих выводах. Возьмите Белинского. Он тоже был гегельянцем, и даже самой чистой воды. Он тоже находил свое счастье в созерцании мира как единого прекрасного космоса и забывал не только себя, но и людей вообще ради таинственного Абсолюта; однако когда в нем заговорило ободрившееся сердце, когда деятельная любовь к людям проснулась в его благородном, измученном сердце, он, хотя и в шутливой форме, нанес всему гегельянству и всем гегельянским мудростям неотразимый удар. В письме Боткину он пишет: «Ты, я знаю, будешь надо мной смеяться; но смейся, как хочешь, а я – свое: судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира. Мне говорят: „Развивай все сокровища своего духа для свободного самонаслаждения духом; плачь, дабы утешиться; скорби, дабы возрадоваться; стремись к совершенству, лезь на верхнюю ступень лестницы развития, а споткнешься – падай, черт с тобою, таковский и был сукин сын!“ Благодарю покорно, Егор Феодорович Гегель, кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением честь имею донести вам, что если бы мне удалось влезть на высшую ступень развития, – я и там попросил бы вас отдать отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и прочего и прочего, иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастия и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих собратий по крови… Говорят, что дисгармония есть условие гармонии: может быть – это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии».
До всех этих жертв дисгармонии Гегелю не было ни малейшего дела. Если личные неудачи раскрывали сердце Белинского для любви ко всем ближним, ко всем обездоленным, то в Гегеле они, напротив, развили и так уже бывшие в нем душевную сухость и скрытое высокомерие. Он голодает и пишет книгу, где рассматривает мир с точки зрения эстетического фатализма. В сотне страниц нет ни одной протестующей строчки. Все чинно, благородно, гениально. Ни на минуту не забывается, что «reverentia fato habenda est principium scientiae moralis» (уважение к судьбе есть основание нравственности). Всяко бывает, и это, если угодно, понятно. Удивительно, конечно, как это голодающий человек находит вселенную прекрасной и гармоничной, не находит в ней ни одной темной черточки, но – всяко бывает. Есть, однако, и непонятные вещи.
Австрия покорилась французскому оружию в 1805 году, а Пруссия – в 1806. Гегель – немец, успокоившийся на мысли, что Германия – не государство, и знать не хочет ничего более. В отечестве, завоеванном французами, он находит только одни интересы – своего философского творчества, своих собственных манускриптов.
Перенесемся в 1805 год, в октябрь, в Йену. Римско-германская империя пала; на ее развалинах возник рейнский германский союз под диктатурою французского императора. Наполеон раздавал своей семье короны, владения, народы. Последнее Германское государство, еще вооруженное, готовится встретить завоевателя. Возле Йены должна разыграться одна сцена великой драмы. От этой битвы зависит участь Германии. Если пруссаки разбиты, то германцы будут только одним из «двадесяти племен», прикованных к колеснице сына судьбы. Гегель в Йене. Перед его глазами проходят гордые прежними победами французские колонны, чтобы завтра сражаться с пруссаками. В то же самое время Гегель послал рукопись «Феноменологии» своему приятелю Нитгаммеру. Он выражает в приложенном к ней письме безграничную заботу, но не о Германии, не об участи отечества; нет, он боится одного, чтобы трудная работа не пропала ввиду «прискорбных беспорядков» времени. Он пишет это письмо накануне решительной битвы и вместе с тем выражает свои восторги перед Наполеоном. Он, оказывается, видел императора – эту мировую душу, «Weltseele». Можно бы, казалось, ожидать, что присутствие врага отечества, прошедшего с победоносным войском всю Германию, расшевелит сколько-нибудь патриотическое чувство Гегеля, что немец-шваб на минуту признает немца-пруссака своим братом. Ничего подобного нет. «Это в самом деле чудное чувство, – пишет он, – когда видишь подобную личность (Наполеона), который, сидя верхом, здесь из одной точки охватывает мир и им повелевает. Конечно, пруссакам нельзя было предсказать ничего лучшего, но с четверга по понедельник подобные успехи возможны только для этого необыкновенного человека, которому нельзя не удивляться… Как я заранее желал успеха французской армии, так все желают теперь его ей, и успех неизбежен при чудовищном превосходстве ее предводителей и солдат над противниками». Предсказания Гегеля исполнились. Пруссаки побеждены. Германия у ног повелителя. Фихте бросил кафедру в Эрлангене и бежал в Кенигсберг, чтобы разделить участь побежденного отечества. Но Гегель через несколько месяцев еще пишет, что в истории этого дня он видел «неотразимое доказательство победы образованности над грубостью и духа над бездушным рассудком и умничаньем».
Можно, конечно, оправдывать Гегеля хотя бы потому, что не один он так делал и что нельзя всем и каждому быть похожим на Фихте; но в сущности, что это за оправдание?.. Во всей этой йенской истории Гегелю, по-видимому, не понравился только один эпизод, когда «грубые французские солдаты» ворвались в его квартиру и производили в ней всяческие безобразия, рвали бумаги, обливали чернилами стены, плевали, куда приходилось, и не оставляли в покое даже самого хозяина, подшучивая над его длинным носом и другими «eigenheiten», то есть особенностями. Гегель, очень обиженный, обратился тогда к одному из сержантов с орденом Почетного легиона в петличке и заявил ему, что «ожидает помощи от его почтенной особы» и полагает, «что нет никакого разумного основания обижать мирного немецкого философа». Но увы! – «орден Почетного легиона» только покрутил свой ус и, не без презрения взглянув на этот тщедушный экземпляр человеческой породы, именовавший себя «мирным немецким философом», даже не вступился за него. Безобразия продолжались, гардероб Гегеля и его табакерка подверглись самому варварскому нападению, чернильницы летели в стену, черновые листки «Феноменологии духа» пошли на цигарки; сам Гегель и его eigenheiten подверглись всяческому оскорблению, и он должен был бежать, оставив все на произвол судьбы.