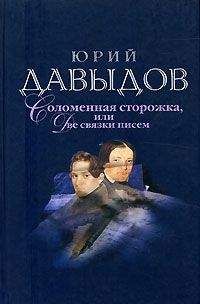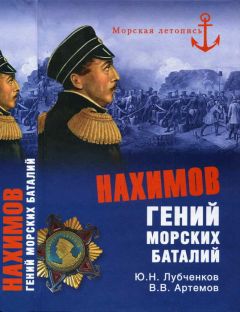Юрий Давыдов - Нахимов
Но оттуда, с кургана, Нахимов видел то, чего не мог видеть Толстой: Павел Степанович видел еще и свои прошедшие годы — черноморские, севастопольские.
1На рождество 1834-го Лазарев был утвержден главным командиром Черноморского флота; по-нынешнему сказать — командующим. Однако еще до утверждения в этой высокой должности Михаил Петрович манил на юг «отличных морских капитанов», прежних испытанных коллег, оставшихся на Балтике. Звал он и Павла Степановича Нахимова.
Нахимов все еще плавал на корвете «Наварин». Потом получил новехонький 44-пушечный фрегат и снарядил его, по обыкновению, «со всевозможным морским щегольством». Современник восхищался: «Это был такой красавец, что весь флот им любовался и весьма многие приезжали учиться чистоте, вооружению и военному порядку, на нем заведенному».
Фрегат «Паллада» впоследствии (уже без Нахимова) прошел океаны. И «вошел» навсегда в литературу: на нем путешествовал Гончаров… А Нахимов свое пребывание на фрегате отметил поступком весьма примечательным.
Дело было так. В составе 2-й балтийской дивизии «Паллада» находилась в плавании. Дивизию вел вице-адмирал Беллинсгаузен. Августовской ненастной ночью (крепкий шквалистый ветер, пасмурность, дождь) на фрегате Нахимова, запеленговав маячный огонь, определили, что эскадра вот-вот выскочит на камни. Момент был критический. Павел Степанович сделал сигнал: «Флот идет к опасности». Ответа флагмана не последовало. Тогда Нахимов, не теряя времени, уменьшил ход и поворотил на другой галс, то есть самовольно изменил курс, самовольно вышел из ордера, сломав походный порядок.
Но, во-первых, сигнальная книга предусматривала такой сигнал; стало быть, формально не запрещалось им воспользоваться, командуй эскадрой хоть сам господь бог. Во-вторых, сигнал Нахимова, который, как уверяют биографы, спас эскадру, сигнал этот, оказывается, не разобрали, не поняли на флагманском корабле. Да так вот и отметили — дважды, дважды! — в шканечном (вахтенном) журнале: ничего «по причине дождя и большого волнения рассмотреть не могли».
Нахимов поступил в строгом соответствии с правилами службы. У него, верно, был отличный штурман; может быть, проверив штурманский расчет, Нахимов убедился в его правоте. И все ж далеко не каждый, окажись на месте Павла Степановича, осмелился бы сделать то, что он сделал: указать на ошибку адмиралу. Да еще какому! Самому Беллинсгаузену, начальнику матерому, уважаемому и почитаемому, очень и очень авторитетному.
Суть поступка Нахимова лежит не столько в сфере профессиональной, сколько в сфере нравственной. Вообразите на минуту: предостережение оказалось вздорным. Что тогда? Неминуемое изгнание с флота, ежели не судебное разбирательство. Ведь малейшее нарушение субординации немедленно докладывалось царю. А Николай никогда и никому не прощал «дерзость». Он, например, без колебаний разжаловал в матросы капитана 1-го ранга, георгиевского кавалера за весьма несерьезное «ослушание противу своего бригадного командира».
Конечно, адмирал Беллинсгаузен, случалось, перечил и самому Николаю, выгораживая подчиненного[14]. Однако Нахимов прекрасно понимал, что «в его случае» заступничество Фаддея Фаддеевича не спасет от монаршего гнева. Но Нахимов не был бы Нахимовым, если бы предпочел уклониться, предпочел бы не оспаривать флагмана. Он был бы не Нахимовым, а разве лишь чиновником в морском мундире…
Что ж до спасения эскадры, то она действительно была спасена (хотя несколько кораблей выскочило-таки на камни) не самим по себе сигналом, а, очевидно, тем, что флагман обратил внимание на выход «Паллады» из строя и приказал переменить курс[15].
Говорят, Нахимов не только не пострадал, но даже удостоился похвалы из уст императора: «Я тебе обязан сохранением эскадры. Благодарю тебя. Я никогда этого не забуду!»
Много толков и пересудов вызвал поступок Нахимова. Ему дивились. Удивление весьма красноречивое: редкие сотоварищи Нахимова осмелились бы на нечто подобное.
В 1834 году Павла Степановича по ходатайству Лазарева перевели на Черное море. Сигналом «Флот идет к опасности» и закончилась, в сущности, балтийская жизнь Нахимова. Но вот еще что: в сигнале этом нетрудно усмотреть символику.
Николай посетил как-то один из балтийских кораблей. Императору приглянулась командирская каюта: в зеркалах отражались vis-â-vis он, Николай Палкин, и Петр Великий. Это было, уверяет современник, «очень эффектно», и «у государя явилась приятная улыбка».
Зеркала сего корабельного будуара отражали не только физиономию «царствующего благополучно», но и физиономию царствующей парадности. Деревянными придворными назвал кронштадтскую эскадру наблюдатель, отнюдь не бунтовщик; поклонника абсолютизма ужасала маршировка, перенесенная с территории на акваторию.
Однако Николаю, рассказывает другой наблюдатель, «было мало сделать из своих офицеров машины, в чем он зашел дальше своих предшественников, он захотел сделать из них машины, ничем не связанные друг с другом. Решившись истребить в их среде корпоративный дух, он прибег для этого к тайным мероприятиям, которые в конечном счете изгнали сердечность и умертвили теплое чувство товарищества…»[16].
Таков пейзаж. Безотрадный, как солончак. Однако в нем есть частности. Флот на юге отличался от флота на северо-запада. Некоторые поправки вносил географический фактор. Удаленность Севастополя от Зимнего дворца была благом. Конечно, для тех, кто желал служить, не желая прислуживать. А ведь и Лазарев однажды молвил: «Хоть я Николаю и многим обязан, но Россию на него никогда не променяю»[17].
Боевые операции давали черноморцам то, чего никак не могли дать балтийцам тамошние парадные упражнения: сознание своей значимости, государственной важности. Теперешней, сиюминутной, а не скрытой в туманах отдаленного будущего.
На южных морских рубежах России (как и на сухопутных кавказских линиях) возникало и крепло что-то похожее на непредусмотренное уставами братство. Тут нельзя было по-настоящему выслужиться, а надо было по-настоящему служить. Тут честолюбие получало другое, нестоличное звучание. Тут репутация складывалась не в гостиных, а на Графской пристани, этом севастопольском форуме, где нелицеприятно обсуждались корабельные маневры и работы, достоинства мичмана, управляющего шлюпкой, и достоинства адмирала, управляющего эскадрой.
Долгие годы черноморцы аттестовались «отчаянными» — бесшабашные кутилы, ерники, строптивцы и т. п. Но минуло время, и под влиянием таких людей, как Нахимов, «черноморцы переродились».
Характерную частность отметил писатель Н. С. Лесков: в Черноморском флоте, «в самую блестящую его пору, при командирах, имена которых покрыты неувядаемою славою и высокими доблестями чести и характеров, все избегали употребления титулов в разговоре. Там крепко жил простой и вполне хороший русский обычай называть друг друга не иначе как по крестному имени и отчеству… Таких славных героев, как Нахимов и Лазарев, подчиненные с семейною простотою называли в разговоре Павел Степанович, Михаил Петрович, а эти знаменитые адмиралы, в свою очередь, также называли по имени и отчеству офицеров… Такого простого обычая держались все, и флот дорожил этою простотою; она не оказывала никакого дурного влияния на характер субординации, а, напротив, по мнению старых моряков, она приносила пользу. „Чрез произношение имени, — рассказывают старые моряки, — все приказания начальника получали приятный оттенок отеческой кротости и исполнялись с любовью; а ответы подчиненных с таким же наименованием старшего придавали всяким объяснениям и оправданиям сыновнюю искренность“.»