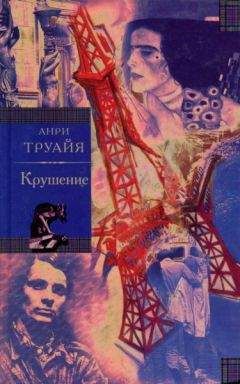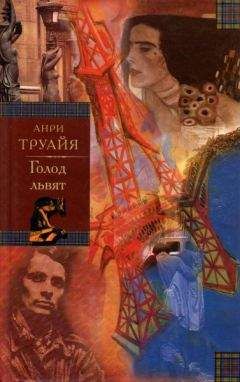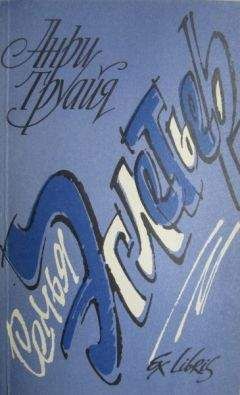Анри Труайя - Моя столь длинная дорога
Тем временем я возобновил работу в префектуре в обществе моих безропотных и изголодавшихся коллег. Чтобы как-то улучшить свой повседневный рацион, служащие моего отдела устраивают охоту на голубей – они целыми колониями гнездятся в углублениях фасада ратуши. На краю подоконника чиновники-браконьеры ловко укрепляют скрепками петлю, ее скользящий конец свисает внутрь и его легко достать рукой. Крошки хлеба в середине петли привлекают птиц. Как только одна из них приблизится к крошкам и примется клевать, раздается щелчок – лапки ее связаны, птица в ловушке. Один служащий, специалист по мгновенной казни, сжимает под крыльями тельце голубя и душит его. Если в этот момент в дверь стучит посетитель, голубя быстро запихивают в картонную зеленую папку, и, пока длится визит докучливого посетителя, со стороны этажерки доносится шум крыльев бьющейся в папке птицы. Когда посетитель, наконец, уходит, чиновник вытаскивает свою жертву и приканчивает ее. Мясо парижского голубя безвкусное и волокнистое, но в голодные времена все годится, чтобы набить желудок. Меня тоже приглашают отведать блюда, приготовленного из охотничьего трофея, но я уступаю свою долю любителям. Кстати, я даже не знаю, останусь ли на службе в префектуре: в соответствии с новым законом правительства Виши государственными чиновниками, кроме специально оговоренных случаев, могут быть только французы по рождению. Никогда не чувствовал я себя в такой степени французом, как после разгрома Франции, а нынешнее правительство исключает меня из национальной общности. У меня снова отнимают родину. Я протестую. Составляю целое досье в свою защиту. Требую оставить меня на моей должности. В конце концов, мне это в виде исключения разрешают. Честно говоря, мне стыдно так негодовать из-за своих мелких неприятностей, когда столько французов испытывают тяжкие муки под варварской властью оккупантов. С ужасом, с возмущением вижу я первые желтые звезды на одежде моих соотечественников. Эти желтые звезды, предназначенные стать знаком позора, в моих глазах превращаются в святой ореол мучеников. Трудно примириться с мыслью, что находятся французы, извлекающие выгоды из этой чудовищной расовой дискриминации. Многие мои друзья – евреи. Гонимые властями, они особенно дороги мне. Мое бессилие помочь им разрывает мне сердце. Немцы преследуют евреев, целыми поездами вывозят их в концлагеря, угоняют на принудительные работы в Германию молодежь, захваченную во время облав, расстреливают при первом сопротивлении, усиливают бомбардировки Парижа, наконец, занимают свободную зону – вся Франция под пятой врага. Но с каждой неделей крепнет надежда: в войну вступает СССР, а вслед за ним – США.
Немцы напали на Россию молниеносно, и у моих родителей появилась надежда, что под сокрушительными ударами немецких армий советское правительство долго не продержится и при смене режима они, может быть, смогут после двадцатилетнего изгнания вернуться на родину. (Не называли разве недавно в немецких сводках Армавир и Краснодар – бывший Екатеринодар?) И снова я огорчаюсь, что так далек от них в своих планах на будущее. Для меня возвращение в Россию немыслимо. И тем более невозможно для меня вернуться на родную землю под сенью вражеских знамен. Впрочем, и в желаниях моих родителей еще нет определенности. Они жадно следят по карте за продвижением гитлеровских армий и очень расстраиваются, когда видят в газетах или в кинохронике разрушенные русские города и русских пленных, изможденных, оборванных. Первые победы советских войск наполняют их гордостью. Забыв эгоистические проблемы эмигрантов, они с удивлением замечают, что желают победы стране, которая их отвергла. Они молятся не за правительство – его они не признают, а за народ – его они никогда не переставали любить, они молятся не за сегодняшний Советский Союз, а за вечную Россию.
– Какой была ваша писательская деятельность в эти годы?
– В годы оккупации я выпустил в свет две книги. В 1941 году – сборник из трех легенд под названием «Суд божий». Эти легенды не заимствованы ни из русского, ни из французского фольклора. Целиком плод моей фантазии, они были для меня бегством от действительности в минувшие эпохи, вторжением фантастического в вязкое течение повседневности, торжеством чудесного. Совсем иным был тон романа «Мертвый хватает живого», появившегося в следующем году.
– Да, этот роман считался как бы подтверждением правоты тех в Советском Союзе, кто утверждает, будто Михаил Шолохов совершил плагиат, приписав себе авторство «Тихого Дона». Вымышлена ли рассказанная в романе история бесчестного писателя или она имеет какие-то корни в реальности?
– История эта вымышлена, но в основе ее лежит подлинный случай. Мой друг детства Володя Былинин был убит на войне, и его жена дала мне посмотреть записную книжку, куда он заносил свои мысли. Всю ночь я с волнением ее читал и вернул на следующий день. И уже независимо от меня моя мысль заработала. Вдруг словно что-то щелкнуло: мне представился писатель-неудачник, женившийся на вдове никому не ведомого гения. В бумагах покойного он находит рукопись романа и публикует ее под своим именем. Рождается драма. В душе героя борются, сменяя друг друга, противоречивые чувства: тайное наслаждение участника, горькая радость украденной славы, страх не оправдать собственными произведениями репутацию, ему не принадлежащую, страстное желание перевоплотиться в мертвого, труд которого он присвоил. Затем происходит медленное порабощение всего его существа призраком умершего, раздвоение, расщепление личности героя и, наконец, очищение искупительной жертвой. Рассказ построен в форме дневника плагиатора.
– Считаете ли вы, что ваши первые романы, короткие и камерные, ставят вас в ту категорию романистов, к которой принадлежат Жюльен Грин и Франсуа Мориак?
– Я всегда безмерно восхищался Жюльеном Грином и Франсуа Мориаком. Несомненно, в начале моей литературной деятельности они оказали на меня сильное влияние. Первые мои романы были короткими, неистовыми и мрачными, с резко обрисованными, почти карикатурными героями. Молодость и неопытность толкали меня к преувеличению, к пастозности письма. Я считал, что мои персонажи, чтобы выглядеть живыми, должны отбрасывать густую тень. Но во мне нарастало стремление разнообразить средства художественного выражения, высветлить палитру. Когда я работал над следующим романом, «Знак быка», я испытывал настоятельную потребность с большей свободой описывать моих героев, наделить их характером более сложным, отказаться от изображения человека как некоей компактной массы и показать его как водоворот противоречивых мыслей и противоположных инстинктов. Подобное «очеловечивание» существ, созданных моим воображением, стало насущно необходимым, когда я задумал писать трилогию «Пока стоит земля». Я уже говорил, какое впечатление производили на меня в детстве рассказы моих родителей. Однако в моих первых книгах я был еще не готов использовать материал этих рассказов. Только после того, как я прошел через работу над биографией Достоевского, стремление восстановить русское прошлое матери и отца завладело всеми моими помыслами. Я вдруг понял, что храню в себе настоящую сокровищницу образов, и осознал, что не имею права беречь их для одного себя. Россия, которую я носил в глубоких тайниках моей памяти, требовала выхода, простора. Сначала я предполагал просто-напросто правдиво изложить в отдельной книге мои семейные воспоминания. Но вскоре передумал. Я опасался, что мемуарист потеснит во мне романиста. Составление точной хроники событий принесет мне удовлетворение, но не позволит ввести в рассказ вымышленные персонажи, воспрепятствует проникновению в те круги общества, где никто из моих близких не рискнул бы действовать, не даст придумать любовные истории, которые, если бы мои родители их пережили, привели бы их к разводу наутро после свадьбы. Словом, еще не взявшись за перо, я уже боялся, что, озабоченный точной передачей фактов, крайне обедню общую картину. После долгих размышлений я выбрал сплав реального и вымышленного. Мои воспоминания не стали бы единственным материалом для книги, а растворились бы в целом, где правда сливалась бы с вымыслом. Но, даже остановившись на форме романа, а не мемуаров, я долго колебался, прежде чем приступил к непосредственной работе над ним. Грандиозность моего проекта и его дерзость устрашали меня. Хватит ли у меня сил, хватит ли терпения довести до конца дело столь трудное и столь разнящееся от всего, что я брал на себя до сих пор, сочиняя короткие романы из французской жизни? И понадобилась вся опустошенность, вся бездна отчаяния, которые принесли разгром Франции и ее оккупация, чтобы побудить меня искать утешения от горестного настоящего в иной стране – стране грез.