Михаил Пришвин - Дневники. 1918—1919
У царя были верные слуги, только слуги не понимали (и не думали даже, что понимать нужно царское дело), что царь делает: живем за царем, его воля. И вдруг каждый стал царь и Бог.
8 Апреля. Богатый и злой человек создает одной девушке обстановочку счастья, чтобы посмотреть, как злы и завистливы несчастные.
Сонины мысли[71].
О Троице: Отец — отец, начальник всему, а Сын — его наследник, заместитель. Дух же святой — раб их, почтовый голубок, раб в смысле самом хорошем, как выразитель внутреннего мира и действительно вечного.
Где собрались трое — один раб. У Мережковских — Философов, у Ремизова — Микитов, у нас троих — Иван Васильевич — бунтующий раб. А путь раба бунтующего, его окончательное спасение — в превращении в почтового голубка (сюжет для русской повести).
Ужасный вчерашний день: на прощанье Марья Михайловна отравила меня зеленым своим маслом.
Тоже драма: она хочет войти в сферу высшей любви и гонится за писателями и художниками: в сущности, это и есть мещанство в изуродованном виде. А потому что она чувствует себя профаном в искусстве, то оказывает разные услуги: первое — дать взаймы денег поэту, второе — достать хлеба художнику, третье — масла писателю. Немудрено, что, когда деньги проживаются, масло и хлеб съедаются, поэты, писатели и художники покидают ее.
Вчера говорю Ольге:
— Заявляю вам, что люблю одну Козочку и больше никого, ее единственную.
А она:
— Когда же венчаться?
Логика тещи. Только Ольга не настоящая, а «умирающая теща» (летающая колбаса), у которой в одну дырочку весь дух выходит.
У Козы мне нравится ее мертвая хватка: вцепится, позеленеет и не выпустит: ее почти-цинизм как заключение сложной внутренней борьбы, в истоках своих имеющей грусть-тоску и готовность смело отдаться порыву.
18 Апреля. Хрущево.
14 Апреля Москва — 13 Апреля из Петрограда. Бой толстовки с большевиками:
— Ваша программа чудесная! только не надо насилия. Убийство! как и чем можно оправдать убийство? Мы, толстовцы, даже мясо из-за этого не едим.
— Не ешьте мясо! Не убивайте!
Она не слушает, думает о своем и вдруг говорит:
— А может быть, это война? это война вас научила убивать, и вы люди погибшие...
— Мамаша, вы счастливая: вы не воевали, а мы разве этого хотим? Вот если бы мамаша испытала, а вы не испытали — что же вы нам сказать можете?
— Я войны не хочу испытывать даже, я знаю ее и не хочу, я хочу вам душу вашу показать.
— Не хочу души, где душа?
— Как где? в вас самих, внутри вас.
— Души нет, душу надо отменить, совесть, а не душа.
— Совесть в душе.
— Нет, просто совесть: у совести есть глаза, а что такое душа — я не знаю.
— Бог.
— Нельзя ли «Бог» каким-нибудь другим словом заменить?
Он изрекает, задумчивый, мягкий, но упрямый и одержимый:
— Если бы можно было всю буржуазию, всех попов в один костер и сразу истребить, я желал бы это сделать своими руками.
— Боже мой!
— Нельзя ли, мамаша, слово «Бог» каким-нибудь другим словом заменить? Отменить тот свет? Согласен! Здесь, на земле. Ну, хорошо, я скажу: душа, где же душа ваша? Я не знаю, где душа, я знаю совесть: у совести есть глаза, а у души... Попов, — а я что же говорю — не нужно попов.
Она в отчаянии и хочет задобрить:
— Ваша программа чудесная, но зачем убивать?
— Мамаша, это пройдет: люди не будут убивать, из-за этого мы теперь и убиваем, чтоб потом было хорошо.
— Почему едете домой? — воевать, а вы едете...
— Мы едем подождать, когда начнется.
Как он побежал за чайником и, держа ее вегетарианский сыр, обнял рукой, как ребенка: как отдался — и нежен и страшен.
Инвалид.
— Потом — мы перестанем убивать, тогда будет счастье.
— Друг мой, а вы едете навсегда.
Я помню его в Ярославе: он был уверен, это счастье.
— И я тоже говорю: а я разве о себе, мне жизнь недорога.
— Но вы отрицаете тот свет, а говорите о будущем, это будущее ваше и есть тот свет.
Он согласен: да, это тот свет, но только слова нужны другие.
Мы спросили:
— Ну, как народ русский, приходит ли в себя?
Артем ответил:
— Нет, народ все увидел, во всем изверился и пошел на отчаяние. Эти погромы — отчаянье.
18-й день, как едем по фронту войны — по фронту революции.
Все русские люди, которых я встретил по пути от Петрограда до Ельца, этому бесконечному мучительному пути из адской кухни в самый ад, где мучатся люди, все эти люди — от фанатика, одержимого большевика гвардейского экипажа балтийского флота, до последнего мешочника на крыше телячьего вагона — имели вид уязвленных, в отчаянии потерянных людей.
За три часа до отхода поезда[72] я забираюсь в товарный (телячий) вагон, сажусь у стенки на заплеванный, загаженный пол, я счастливец: могу сидеть. Те, кто позже приходят, становятся человек к человеку плотно. Потом приносят доски и начинают стелить у меня над головой потолок. Кто лезет на потолок, а кто садится. Низкий потолок давит мне голову, на ногах сидят, руками нельзя пошевельнуть, крыша трещит. Через щели сначала сыплются на голову семечки, плевки, мусор. Полная тьма, выйти невозможно. Сверху начинает в разных местах капать вонючая нечисть. С онемелыми ногами в темноте, с укутанной головой, оплеванный, огаженный сижу я и думаю: «Вот оно — "дело народа!"»
К вечеру второго дня мне удается выглянуть на свет Божий.
Вечерняя заря ранней весной. На повороте видел весь состав поезда, на крыше с мешками в руках всюду сидят группы людей.
Среди них есть немного людей, которые ищут хлеб для себя, а масса — хищники. Все это кипит ненавистью к красногвардейцам и на каждой станции готовится к бою.
Разговор:
— Он подходил с винтовкой, а у него граната...
— Не будут отбирать... не посмеют... такой эталон и ограбленный!
Счастлив эшелон.
В Ельце масса распределяется. Осадное положение. Они разбредаются.
И вот родная земля, вид ее ужасный[73]... разоренное имение, овраги, полоумные люди, которые буквально хватают за края вашей одежды, спрашивая, что же будет дальше.
Полет в бездну стал продолжителен... Это не более, не менее, как полет в бездну. Летят в бездну, зная это, и в то же время приспосабливаются верующие — прежние люди.
Вот земля... я еду... Делят.
— Земля, а чья?
— Богова!
— А сторонники чьи? Драка...
— Земля, а она чья земля?
— Богова!
— А сторонники чьи?
Трюмо: в избу не входит, на дворе:
— Смотрелась барыня, а теперь кобыла.
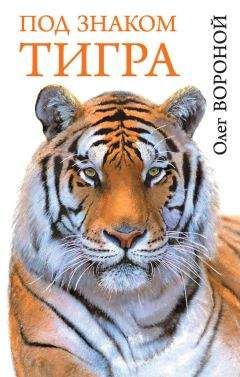
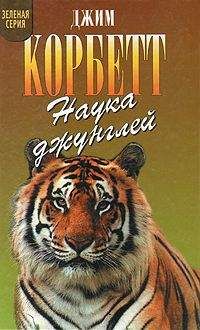
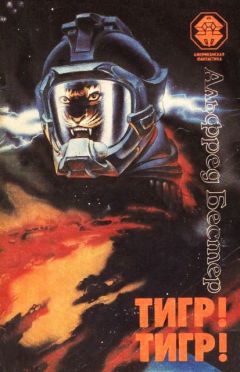

![Филип Фармер - Властелин тигр [= Владыка тигр, Бог-тигр, Властитель тигр, Лорд Тигр]](/uploads/posts/books/25287/25287.jpg)