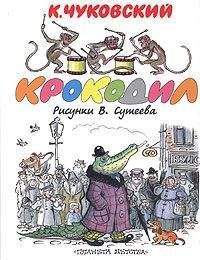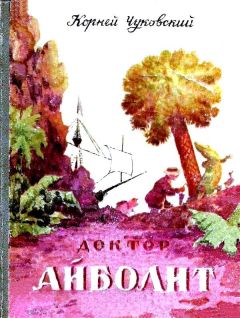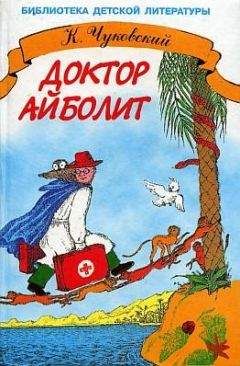Давид Каган - Расскажи живым
— Ну, это неважно.
Фельдшер не разделяет моей радости.
— Шилом моря не нагреешь! — произносит он знакомую поговорку. — Кончается, вот одна коробка.
Во время обхода узнаю от него, что в землянках и те, у кого нет тифа. Как появились случаи тифа, так наложили карантин на весь блок.
— Никого не выпускают! Немцы решили, что проще поставить полицаев у приволоки, чем помыть всех и дезинфицировать одежду. А полицаи свое дело знают... Только вынос трупов разрешается. — Он натужно закашлялся, вынул из кармана тряпку, служившую ему носовым платком.
Останавливаемся около больного, который, лежа головой к проходу, что-то пишет. В руках самодельный блокнот из тетради, огрызок карандаша. Так погружен в записи, что никого не замечает.
— О чем пишешь? — спрашиваю.
Парень приподымается на четвереньки, слабая краска смущения выступает на покрытом грязными корками лице. Судя по пушку на верхней губе, ему лет восемнадцать. Всматриваясь в меня, вполголоса отвечает:
— Дневник!
Отстегивает карман гимнастерки, хочет спрятать блокнот. Вшей на гимнастерке столько, что им тесно в складках воротника и на рукавах, они серой строчкой расположились по шву кармана. Жирные, медлительные.
— Пиши! Пиши! — говорю я.
Надо отойти, не мешать. Но хочется подольше побыть с ним рядом, погреть свою душу его верой. «Наши придут непременно и застанут ли его в живых или нет, а дневник прочтут...»
Из-под нар выполз человек в гражданской одежде, стал в проходе. Странно тут видеть вместо шинели драповое пальто.
— Почему меня здесь держат? — кричит он. — Я не военный! — Рыжая, сбитая комом борода, глаза отчаявшегося, близкого к безумию человека. Он расстегивает пальто. На нем пиджак и грязная рубашка с отложным воротничком.
Немцы не утруждали себя разбором, кто военный, а кто гражданский. Возраст армейский, а если ты в гражданской одежде, значит, переоделся. И марш в колонну военнопленных!
Многие без сознания, в бреду. Если вглядеться в солому, на которой лежат люди, то можно заметить ее слабое шевеление: все кишит насекомыми.
— Помыться бы... — на разные голоса обращаются ко мне. Я новый человек, может быть, помогу. «Помыться бы!» — одна мечта у всех. Вши высасывают последние капли крови, не дают покоя ни днем, ни ночью.
— Была ли когда баня? — спрашиваю у Ивашина.
— Ни разу... С тех пор, как пригнали колонну пленных, никто не мылся. Нет бани...
— Когда пригнали?
— Тут много из-под Ельни. В сентябре, кажется, — голос у него глухой, усталый. — А начали строить лагерь в июле, сейчас девяносто шесть землянок.
Осматриваем больного, на шинели которого черные петлицы артиллериста. Пульс слабый, мягкий. Немигающий взгляд покрасневших глаз, никого не узнает, на вопросы не отвечает. По прибитой к столбику палке-ступеньке залезаю на нары. С трудом удается выслушать глухие тоны сердца.
— Кризис уже наступил, — говорю Ивашину. — Ему надо повторно вводить камфару, кофеин. Пока есть — будем делать.
Вечером вышел наверх. Темнеет, скоро сумерки перейдут в ночь. На западе, у края горизонта, желто-серая полоса, последний отблеск вечерней зари. От проволоки доносится ругань. Лагерные санитары принесли бочки с баландой к калитке блока, тут их принимают наши санитары.
— Опять принесли неполные бочки, — кричат они на лагерных санитаров. — Расплескали, сволочи!
— Не расплескали, а столько дали.
— Не будем принимать! Что нам — по ложке наливать каждому?!
— Что ты раскричался, гнида? — вмешивается полицай. — Не возьмешь, так совсем не получите. Сейчас назад отнесут!
Покорившись, санитары продевают палки в ушки бочек и несут в блок.
Пора уже устраиваться где-нибудь на ночь. Помещение землянки освещено редкими коптилками, маленькими плошками с фитилями, вроде коробочек из-под гуталина.
— Вот здесь положим матрац, — Ивашин показывает на козлы, поставленные недалеко от печки. — Тут Журавлев спал. А матрац этот мы на мороз выбрасывали.
Журавлев — врач блока, работал до меня, сейчас лежит в санчасти лагеря. Фельдшер понимает, что может беспокоить нового человека.
— Авось не заболею, — вслух успокаиваю я себя. — Не все люди восприимчивы к тифу.
— Так мы и живем здесь уже три месяца. Вся надежда на авось. Верно? — говорит Ивашин, обращаясь к санитару.
Тот промолчал, сдвинул на печке котелки со снегом.
Предлагаю всех тяжелых больных собрать вместе, положить рядом. Тогда можно будет чаще к ним подходить. И уколы делать удобней.
— Набрали камфару? Пойдемте!
Одного шприца в десять граммов хватает на пять человек, У артиллериста пульс немного лучше. Открыл глаза, облизал сухие губы кончиком языка. Пить хочет.
— А в тех землянках тоже много тяжелых?
Ивашин отвечает не сразу.
— Как вам сказать. Сыпняка там меньше, зато дизентерия у многих.
Санитар разогрел снег в котелка и разносит воду: кому наливает в крышку от котелка и они сами пьют, кому вливает в рот из ложки.
— Спасибо!
— Еще капельку!
Ночью не могу заснуть от холода. Мешают насекомые. Пожалел, что не остриг волосы.
У печки сидит санитар, задумчиво устремив взгляд в гаснущие угли. Устав ворочаться без сна, подсаживаюсь к нему. Некоторое время оба сидим молча, греясь у печурки. Он налил кипяток в кружку, подал:
— Пейте!
Разговорились. Он кандидат наук, доцент московского технического вуза. Вступил в ополчение. Под Ельней попал в плен.
— Врачи вылечили рану, взяли в санитары. А то пропал бы.
В Москве у него жена, двое детей... Рассказывает тихим, ровным голосом. Видно, уже переволновался человек, устал от всего пережитого.
— Говорят, тут, в Лососно, смертность особенно большая?
— С каждым днем увеличивается. Завтра сами увидите.
Согревшись кипятком, я снова лег.
Перед землянкой, за проволокой блока, проходит дорога к траншеям, где хоронят умерших. Еще только начинает светать, а уже слышен топот, крики, ругань. Одного за другим проносят мертвых со всего лагеря. Шатаясь от изнеможения, четверо волокут труп, ухватив его за руки и ноги. Зимняя стужа и страх перед мертвецом торопят людей. Стоит хотя бы одному из них споткнуться, как страшная ноша вываливается из рук. Обругав того, кто споткнулся, мертвеца тащат дальше.
Я пошел вдоль проволоки блока по направлению к маленькому проходу в главной ограде, где толпятся носильщики, опустив трупы на снег. Там же стоят немцы и полицаи. За проволоку пропускают не более четырех пленных и, пока они не возвращаются, следующие должны ждать. Припорошенные снегом тянутся длинные гребни земли, выброшенной из огромных свежевырытых траншей. Пока их не заполнят трупами доверху, они остаются открытыми.