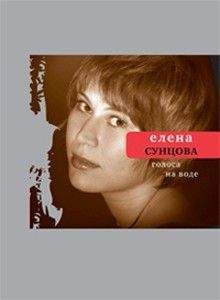Ольга Мочалова - Голоса Серебряного века. Поэт о поэтах
«Балалаечка вечерних трав».
В те времена принято было уделять преувеличенное внимание себе. В. А. не избегла этого.
«Проходишь, как луч озабоченная».
«Уходишь и плачешь, босая жар-птица».
Помимо самолюбования, тут увлечение капризом, своеволием. Кокетливо звучит:
«Гори — не гори. Не гори!»
Вдумываясь в ее творческий процесс, видишь, что стих вызван, пожалуй, в основном изысканием детали, а не внутренним напором чувства. Главное — отдельные впечатления.
«С мостиком озерным бережно и нежно
Целуются безвестные копыта».
К этим заключительным строчкам поэтически-крепко прилажено все предыдущее описание с его «коллекцией раритетов» вроде:
«Нестерпимые серебристости заречных купающихся в утре голосов».
Деталь для художника может быть всем. Но деталь, определяющая суть или ведущая к сути. Здесь же деталь подчас повисает в воздухе, не создавая целого.
В последнем сборнике военного времени, за год до смерти В. А. отрешилась от словесной манерности. Темы ее шире — гражданское рвение, действительность дня — находят в ней сострадательный отклик. Человечески «Вахта» — шаг вперед, но художественно она некрепка. Уклон в грубоватую уличную разговорность не вызрел в хлесткую меткость народной речи.
Что ж получается? Порицаю поэтессу, память о которой хочу удержать для других? Нет. Упомянутые недостатки — только препятствия к тому лучшему, основному, что заставляет хранить ее имя. Препятствия эти можно одолеть. Пускай из уцелевших стихов можно сделать тоненькую книжку — вещей в 25–30, в ней для чуткого слуха зазвучит музыка редкой прелести.
«Никогда не тонула
Моя лирная скрипка», —
говорит В. А. о себе. Как назову этот голос, этот инструмент, который всегда слышала в ее стихах? Если не «лирная скрипка», то какое-то соединение арфы и флейты. Русская поэзия, да и всякая, всегда изобиловала «теплыми» стихами. Стихи Мониной тоже «теплые», но тепло это на другое не похоже. Любовь к жизни, людям, травам, облакам, но такая необщая. Есть в ней нежная озабоченность обуютить вещь, одарить ее «жемчужной дужкой». Уменье подобрать к явлениям полуволшебный «шкатульный ключик повестей», стремление сделать подарок, угадав чье-то сокровенное желание. Ее художническая особенность — меткая небрежность, когда слово изронено, как полусонное угадывание, вскользь, но в цель.
О бурном ненастье своего времени она сказала:
«Кто-то ломал или кто-то метил.
А, может быть, просто по мне грустил».
Муза ее характеризуется ее строками о весне:
«Почти далекая, легкая.
Как цветенье дымки,
Почти ничего не трогая»…
Свойственна ей нелюбовь к яркому, громкому. Она говорит: «Эта бледность ярче красок». Томик ее стихов должен быть «тихий и стихийный».
Есть еще высокоценная черта творческого облика В. А. — целомудренность страдания. Говоря о боли, о гибели, она не жалуется, не кричит, не рыдает, а только издали упоминает. Так в обращении к дочери:
«Это мне —
Камень на пламени.
Так не будет тебе,
Пока ты со мною».
Со свойственным ей лаконизмом, «весь воздух собрав», передает она в двустишии ужас постигшей ее трагедии:
«На поле битв пустынном я оставлю
Жестокую лирокрушенья дрожь».
Иногда ее стихи убеждают в том, что общепринятый порядок слов, грамматика должны отпасть, как нечто отжившее, перед какой-то мимовольной бессвязностью. Жаль только, что — иногда.
Светило поэтессы, всегда сопутствующее ее лирическому пейзажу, — всегда месяц.
«О, месяц, месяц, месяц — ясный князь!»
Особое отношение, как к органу восприятия — к руке.
«На зоркой, зоркой на руке горит
Весь меловой твой лик».
В. А. не выросла до полного овладения своим даром. Причины не только в слабости ее жизненной воли, тяжелой личной судьбе, но и в трудности исторического момента. Ее поэтический опыт не должен пройти бесследно. Так петь могла бы бело-розовая повилика, виясь на изгороди и останавливая прохожих над зацветшей могилой.
В. А. Мониной
Ты в юности моей шла впереди.
Я дивовалась легкостью походки, —
Так смотрят с тайной завистью в груди
На вольное отплытье в море лодки.
Твой голос, ясный взор и стан —
Все было не от грубой плоти,
А несмеянные уста
И молча говорили о полете.
В годину бедствий, пору мятежа
Ты чем-то все была неуловима.
Прохладной веяла в полдневный жар,
Ударами грозы неопалима.
Все срывы, весь провал забуду я,
Не буду помнить меткую небрежность, —
Соперница и сверстница моя! —
Она была нежней, чем нежность.
Мне кажется, лелея образ твой,
Держу в руках прозрачное созданье,
Которого нарушили покой,
Дав женское именованье.
По струнам арфы медленной рукой
Порой рассеянно блуждая,
Ты находила вдруг звучаний строй —
Властительных — изнемогая.
О. А. Мочалова
2. Михпет. Михаил Малишевский
Мы шли Арбатской площадью. Она была тогда совсем другой. Гоголевский бульвар завершался банком, просторная округлость упиралась в угол Арбата и скорбную позу Гоголя.
В Знаменском переулке в школьном помещении происходило поэтическое собрание, возглавляемое Вячеславом Ивановым. При нем состоял тогда забавный мальчуган Миша, кот[орый] держался очень важно и читал всегда одно стихотворение — «Рябина». Помню, что на этом собрании со школьной парты я читала стихотворение, которым начинается мой первый сборник «Рассветный час».
«Жизнь, если ты меня настигла,
Искать всегда я буду
Игр и пиров.
Видя,
Что зелень любит буйство,
Облака — измену,
А ветер и вода — внезапность.
И если обнимает нас простор,
Пусть в сердце бабочка дрожит
Божественного смеха».
Вячеслав Иванович пальцами показал, как дрожит бабочка. Он улыбался мне.
Михпет впервые меня провожал и впервые высказывал свое большое признание, кот[орое] с перерывами сохранилось до конца дней. Точных слов не помню. Он говорил о силе, самостоятельности и значительности моих стихов, как ни у кого из наших сверстников. И тут же он строго придирался, как ему было свойственно, требовательному критику: «А что это у Вас сказано: „Чужеядная сырость“? Что чужое ест сырость?» — «Но я же говорю от лица человека. Сырость ест наше здоровье, разрушает ткани». Так началось дружеское знакомство, длившееся с изменами и перерывами лет 40.