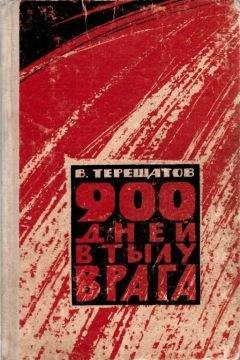Ференц Лист - Ф. Шопен
Шопен знал, знал даже слишком хорошо, что он не действовал на толпу, не мог поразить массы; волны этого свинцового моря, поддающиеся действию всякого пламени, остаются все же тяжелыми на подъем. Нужны могучие руки рабочего-атлета, чтобы бросить расплавленный металл в изложницы, где он принимает необходимую форму, воплощая известную мысль или чувство. Шопен сознавал, что его вполне понимают только в кругах, к сожалению, слишком узких, – где все были готовы следовать за ним, куда бы он ни повел, перенестись с ним в сферы, куда, по представлению древних, вели врата счастливых сновидений, изваянные из слоновой кости, с пилястрами, усеянными алмазами, сияющими тысячецветными огнями. Он с радостью входил в эти врата, секретные ключи которых хранят гении. Этими чудесными вратами он вел за собой в мир дивных чудес, увлекательных небылиц, воплощенных сновидений. Однако переступить порог дано лишь посвященным!
Шопен охотно уносился в эти фантастические сферы и брал с собой туда только избранных друзей. Он признавал и ценил эти сферы выше ухабистых бранных полей музыкального искусства, где часто случается попадать в лапы случайного победителя, тупицы и хвастуна, победителя на день, которому, однако, достаточно одного дня, чтобы затоптать поле лилий и асфоделий и преградить путь в священную рощу Аполлона! В этот день «удачливый воин» чувствует себя равным царям, – однако царям земным, – а это слишком мало для фантазии, знающейся с 'божествами воздуха и с духами горных вершин.
В этой области, впрочем, всё во власти капризов моды, направляемой предпринимателями, рекламами, анонсами, кумовством, – моды двусмысленной, сомнительного происхождения. Но, если мода благородного, высокого происхождения всегда глупа, то что же сказать о моде, не имеющей благовидных родителей! Тонкие художественные натуры, безусловно, отнеслись бы с естественным отвращением к единоборству с ярмарочным геркулесом, переодетым князем от искусства и, как деревенщина, норовящим ударами дубины сбить с ног рыцаря в доспехах, ищущего доблестных подвигов. Они страдали бы, может быть, даже меньше, выступая против такого ничтожества, чем получая вместо ударов кинжала булавочные уколы продажной моды, спекулирующей, ловкой, наглой куртизанки, имеющей претензию водворить на Олимпе великосветские салоны! Она хотела бы безрассудно испить из кубка Гебы, и та, краснея при ее приближении, просит помощи Венеры или Минервы,[75] чтобы ее отразить. Тщетно! Ни высшей красоте не удается затмить ее шарлатанских прикрас, ни мудрость, во всем ее вооружении, не может вырвать у нее шутовской соломенной побрякушки, из которой она сделала себе скипетр. Богине бессмертия в беде этой не остается ничего другого, как в негодовании отвернуться от пошлой пройдохи. Она так и поступает. И видно тогда, как у той сползают косметики с надутых и вульгарных щек, как показываются морщины – и беззубую старуху гонят с позором прочь и забывают.
Шопен почти ежедневно мог наблюдать драматические, чаще комические, доходившие до буффонады злоключения какого-нибудь баловня этой подозрительной моды, хотя в его время наглость «антрепренеров артистической славы», поводырей более или менее любопытных, редких животных, шарлатанов, показывающих «единственный случай помеси карпа и кролика», далеко не доходила до тех пределов разнузданности, как впоследствии. Тем не менее и тогда уже спекуляция могла делать много набегов на область, отведенную музам, и тот, кто был близок музам, кто после своей утраченной родины ничего так не любил, как их, – был в ужасе от этой нечистой силы. Под гнетущим впечатлением отвращения, внушаемого ею, музыкант-поэт сказал однажды одному из своих друзей, артисту, много выступавшему впоследствии: «Я не способен давать концерты; толпа меня пугает, меня душит ее учащенное дыхание, парализуют любопытные взгляды, я немею перед чужими лицами; а у тебя призвание к этому, – когда ты не овладеваешь своей публикой, у тебя всегда найдется, чем ударить ее по голове».
Оставляя, однако, в стороне конкуренцию артистов, виртуозов, танцующих на струнах своих скрипок, арф, фортепиано, – надо признать, что Шопен плохо себя чувствовал перед «большой публикой»[76] – публикой, состоящей из незнакомых людей, о которой никогда за десять минут заранее не знаешь, надо ли ею овладевать или ошеломлять ее: увлечь непреоборимой притягательной силой искусства на высоты, где разреженный воздух расширяет здоровые, чистые легкие, или гигантскими ликующими откровениями ошеломить слушателей, пришедших с целью придираться к мелочам. Несомненно, концерты не так утомляли Шопена физически, как вызывали раздражительность поэта. За его добровольным отказом от шумных успехов скрывалась какая-то внутренняя обида. Ясно чувствуя свое прирожденное превосходство (как все те, кто сумел культивировать свой талант до степени, когда он стал приносить сто на сто), польский пианист не получал в достаточной мере откликов извне, свидетельствующих о понимании, и не имел спокойной уверенности, что его действительно ценят вполне по достоинству. Он достаточно близко наблюдал восторги толпы и хорошо знал это чудище, порой обладающее интуицией, порой простодушно и благородно воодушевляющееся, чаще взбалмошное, капризное, упрямое, безрассудное, имеющее в себе еще что-то дикое: оно нелепо увлекается, нелепо раздражается, причем восхищается бросаемыми ему стекляшками и не обращает внимания на драгоценные камни, сердится по пустякам и падко на самую пошлую лесть. Однако, странное дело, Шопен, знавший толпу насквозь, боялся ее и нуждался в ней. Он забывал в ней дикие черты, испытывал жалость к ее чувствам ребенка, который плачет, страдает, приходит восторг от рассказа о всяких вымыслах, страданиях и экстазах.
Чем больше этот «деликатный неженка», этот эпикуреец спиритуализма терял привычку покорять «большую публику», не бояться ее, тем больше она ему импонировала. Ни за что на свете не согласился бы он, чтобы несчастливая звезда принесла бы ему неуспех в ее присутствии, в одной из тех редких схваток, когда артист, как отважный боец на турнире, бросает свой. вызов и перчатку всякому, кто стал бы спорить о красоте и первенстве его дамы, то есть его искусства. Он, вероятно, говорил себе, – конечно, не без основания: в том тесном кругу, который составлял его «малую публику», разве не любили бы его и не ценили еще больше, если бы он оказался победителем за его пределами? Он себя, вероятно, спрашивал – увы, не напрасно, настолько шатки человеческие мнения, настолько изменчивы человеческие чувства: не любили бы его меньше, не ценили бы его меньше самые пламенные его поклонники, если бы он оказался побежденным за пределами этого круга? Лафонтен правильно сказал: «деликатные – несчастны!»