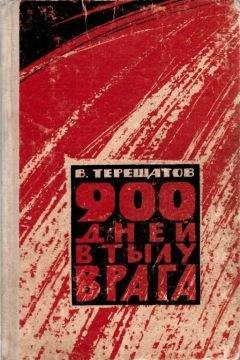Ференц Лист - Ф. Шопен
Они не могли распоряжаться самостоятельно имуществом, не имели полной воли, но, с другой стороны, не могли податься на обман, увлечься и утратить доброе имя. На этом они выигрывали, имели преимущество – преимущество неоценимое, все выгоды которого они прекрасно знали! Путь зла им был заказан; свое же подчинение неусыпной опеке, диктовавшей им определенные рамки, они возмещали захватом почти неограниченной власти в частной жизни. Им было доверено всё достоинство семьи, вся сладость домашнего очага, они господствовали над этим славным и важным уделом, откуда распространяли свое благотворное, умиротворяющее влияние на дела общественные. Ибо с ранней юности они были соратницами своих отцов, посвящавших их в свои дела, в свои тревоги, затруднения и славные деяния своей res publica, [республики]; они были первыми доверенными своих братьев, часто их лучшими друзьями на всю жизнь. Они становились для своих мужей, своих сыновей их тайными советницами, верными, проницательными, решительными. История Польши и картины старинных нравов дают бесчисленные примеры этих смелых, умных супруг, блестящий образец которых дала нам Англия в 1683 году, когда лорд Рассел[62] на процессе, грозившем ему казнью, не захотел другого адвоката, кроме своей жены.
Без этого старинного типа польки – серьезной и мягкой, без сухости и резкости, искренно благочестивой, без стесняющего ханжества, свободомыслящей без болезненного тщеславия, – не мог бы возникнуть и тип современной польки. К возвышенному идеалу бабки она добавила грацию и живость французов, со всеми повадками которых внучка познакомилась, когда волна увлечения версальскими нравами, затопив Германию, докатилась до Вислы. Роковая дата! Поистине, Вольтер[63] и эпоха регентства подорвали силы Польши и были виновниками ее крушения. Утратив эти мужские доблести – по мнению Монтескье,[64] единственный оплот свободного государства, и в самом деле оплот Польши в течение восьми столетий, – поляки потеряли отечество. Польки, более твердые в вере, испытывая меньше потребности в деньгах, не зная им цены, так как мало с ними имели дела, более твердые в нравственности благодаря врожденному инстинктивному отвращению к пороку, лучше сопротивлялись заразе XVIII века. Их религия, их добродетели, их энтузиазм, их надежды создали в них священный фермент, под действием которого воспрянет их милая отчизна!.. Мужчины это понимают; понимают столь хорошо, что умеют обожать (всё обаятельное в этих душах, из которых каждая может воскликнуть: для меня ничего другого не существует; небо, уступая их мольбам, возвращая им отчизну, вернет им цельность первоначального их облика!
Польские поэты, конечно, не уступили поэтам других наций чести обрисовать яркими красками идеальный образ своих соотечественниц. Все они воспели его, восславили, все познали его тайны, все испытывали трепет блаженства от радостей польских женщин, благоговейно собирали их слезы. Если в истории литературы «былых дней» (Zygmuntowskie czasy) на каждом шагу встречаешь античную благородную, доблестную матрону, как отпечаток прекрасной камеи на золотистом песке, движимом волнами времени, то новейшая поэзия рисует идеал современной польки, более волнующий, чем когда-либо грезилось влюбленному поэту. На первом плане вырисовывается эпически царственная фигура Гражины, благородный профиль одинокой и тайной невесты Валленрода, Роза из «Дзядов», Зося из «Пана Тадеуша».[65] А вокруг них сколько виднеется чарующих и трогательных женских образов! Они встречаются на каждом шагу: на дорожках, окаймленных розовыми кустами, как рисуется в поэзии этой страны, где самое слово «поэт» продолжает звучать одинаково со словом «пророк»: wieszcz [вещий]; в цветущих вишневых садах; в дубовых рощах с гудящими пчельниками; в прекрасных садах с великолепными цветниками; в роскошных апартаментах, где цветут красные гранатовые деревья, белые кактусы с золотистыми плодами, перуанские розы, бразильские лианы. – то и дело можно встретить головку à la Пальма Веккьо.[66] Багровые лучи заходящего солнца освещают тяжелую шевелюру, отражающуюся в зеленоватой воде; волосы светлым ореолом обрамляют лицо с веселой пока улыбкой, за которой прячется предчувствие грядущих печалей!
Мы оказали: быть может, надо близко узнать соотечественников Шопена, чтобы интуитивно понять чувства, которыми проникнуты его мазурки, так же как и многие другие его композиции. Почти все они исполнены благоуханием любви, каким веет от его прелюдий, ноктюрнов, экспромтов, где отражаются поочередно все фазы одухотворенной и чистой страсти: обворожительная игра бессознательного кокетства, незаметное зарождение сердечной склонности, капризная вереница образов фантазии, смертельно изнемогающие радости, умирающие в момент рождения, – черные розы, цветы траура, или осенние розы, белые, как окружающий снег, печалящие одним запахом трепетных лепестков, которые срывает с хрупкой лозы малейшее дуновение; искры без отблеска, освещающие мирскую суету, подобно некоторым омертвелым деревьям, светящимся только в темноте; радости без прошлого и будущего, возникшие от встреч случайных, как соединение двух отдаленных звезд; иллюзии, необъяснимые прихотливые пристрастия, вроде как к терпкому привкусу полузрелых плодов, который нравится, несмотря на оскомину. Эскизы бесконечно разнообразных чувств получают облик истинной, глубокой поэзии в силу врожденной возвышенности, красоты, утонченности и изящества тех, кто их испытывает; при этом иногда аккорд, лишь слегка намеченный в быстром арпеджио, вдруг становится торжественной мелодией, пламенные и сильные модуляции которой говорят восторженному сердцу о страсти, жаждущей вечности!
В мазурках Шопена, очень многочисленных, царит чрезвычайное разнообразие мотивов и настроений. В некоторых слышится бряцанье шпор; в других можно в легких звуках танца уловить еле слышный шелест кисеи и газа, шорох вееров, звяканье золота и драгоценностей. Некоторые как будто рисуют мужественную радость, но вместе тревогу на балу накануне военного выступления; сквозь ритмы танца слышатся вздохи, прощальные слова, произнесенные слабеющим голосом, скрываемые слезы. В иных нам чудится тоска, страдания, огорчения, принесенные на празднество, шум которого не заглушает воплей сердца. Порой можно уловить подавляемые ужасы, опасения, подозрения любви – борющейся, снедаемой ревностью, чувствующей свое поражение, страдающей, но не унижающей себя проклятием. Там – неистовство и исступление, среди которого проходит и возвращается задыхающаяся мелодия, неровная, как трепет сердца, млеющего, разрывающегося, умирающего от любви. Дальше – возвращающиеся отдаленные фанфары, память былой славы. Бывают мелодии с ритмом таким смутным, таким трепетным, как бы двое юных влюбленных созерцают звезду, одиноко взошедшую на небесном своде.