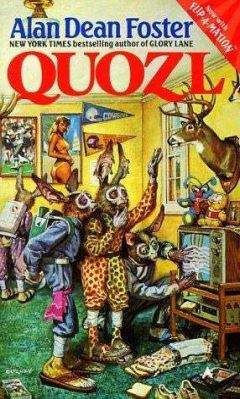Труди Биргер - Завтра не наступит никогда (на завтрашнем пожарище)
В тот день мы возвращались в гетто беспорядочной толпой, всеми овладела какая-то апатия. Зачем мы возвращались, и что нас ожидает впереди?
Вернувшись к себе, мы не нашли отца. Мама побежала в здание юденрата и отыскала там еврея-полицейского. Она умоляла рассказать ей, что здесь случилось за время нашего отсутствия.
Вот что она узнала.
Отец разработал секретный план. На чердаке под крышей юденрата он собрал огромное количество подростков — чуть не сотню. Скорее всего, он рассчитывал, что нацисты не будут обыскивать административное здание; а может быть, надеялся, что члены юденрата используют весь свой авторитет и вес, чтобы спасти этих детей, даже если их обнаружат. Очевидно, он полагал скрывать детей до окончания Kinderaktion,[2] а потом они останутся в гетто и присоединятся к работающим взрослым.
Его план не был авантюрным; он все рассчитал. Иначе и быть не могло. Чтобы тайно собрать в одном месте столько детей, нужно было проводить их на чердак группами, скрытно, используя для этого самую глухую полночь. Разумеется, никто об этом не должен был знать. И мы не знали тоже. Отец не сказал о том даже маме. Зная, что папа рискует своей жизнью, мама не смогла бы день за днем выдерживать такое напряжение. Тихо, осторожно отец делал то, что считал своим долгом.
Но его план провалился. Нацисты обнаружили и убежище, и детей, и моего отца. Их всех вместе забрали и увезли в Девятый форт. Он был за пределами гетто, на высоком холме. Мама умоляла полицейского отправиться туда и попробовать спасти отца. Не знаю, какие она нашла слова для этого, но полицейский согласился. Но и это, как оказалось, было напрасным. Еще до того, как он добрался туда, нацисты расстреляли всех из пулеметов. Об этом и сообщил нам полицейский, когда вернулся обратно.
За время акции нацисты уничтожили две тысячи детей. Эти дети прожили в гетто три страшных года и не умерли вопреки невзгодам. С ними связывались надежды на будущее, они казались залогом того, что мы сумеем возродить прежнюю счастливую жизнь. А теперь их убили! Это злодеяние нацистов сделало меня старше на много лет, я теперь уже не была подростком, я стала взрослой!
Мне казалось, что отец не должен был пытаться обмануть нацистов. Может быть, он даже понимал, что это пустая затея, но он всегда был человеком долга, он всегда старался сделать для других даже больше, чем для своей семьи. А ведь именно тогда мы так в нем нуждались!
До того, как отец был убит, мама держалась героически. Она никогда не показывала мне, что страдает. Были дни, когда мне хотелось покончить со всем. По дороге на работу мы тихо переговаривались, стараясь, чтобы охранник нас на этом не поймал: любые разговоры были запрещены, за это могли расстрелять.
«Больше не могу, — шептала я маме. — Сейчас выскочу из шеренги и убегу в лес. Мне наплевать, пусть они меня застрелят. Не хочу работать вот так, до конца жизни».
Она хватала меня за руку, испугавшись того, что я немедленно осуществлю свою угрозу: «Не позволяй, чтобы тебя застрелили ни за что».
«Наплевать», — отвечала я.
Мне было почти пятнадцать, я чувствовала, как наливаюсь женственностью, взрослею, но что за будущее ожидало меня в гетто? Мама успокаивала, она говорила, что мне не придется выполнять унизительную работу в военном госпитале всю мою жизнь. Война идет к концу. Нацисты проигрывают ее. Если мы будем держаться друг за друга, то и освобождения дождемся вместе. Она упрямо чистила унитазы, убирала гнойные бинты за ранеными немецкими солдатами, вытирала лужи мочи и никогда не показывала, что чувствует себя униженной.
Но после того, как отец погиб, от матери осталась едва половина. Внезапно все изменилось. Мама не хотела больше жить. После убийства отца она постарела лет на сорок. Я поняла, что теперь вся ответственность ложится на меня. Но где мне взять энергию, волю, смелость? Странно, но все это тогда само пришло ко мне.
Мы должны были работать. Нацисты не оставляли своим жертвам времени для горя или переживания тяжелой утраты. Вчера моя мама потеряла любимого мужа, с которым прожила двадцать лет, а на следующий же день ее снова погнали в госпиталь — убирать туалеты за немецкими солдатами. Я внезапно лишилась отца — человека, которым восхищалась, чье присутствие вело меня по жизни. Отец был главной фигурой в нашей семье, и мы с мамой, естественно, полагались на него. Теперь, когда его не стало, нам обеим предстояло жить, рассчитывая только на себя.
Мы с матерью оказались в положении двух одиноких неумелых пловцов, попавших в стремнину. В минуту, когда один шел ко дну, другому нужно было найти в себе силы, чтобы помочь ему удержаться на поверхности. Я вынырнула первой. Это оказалось проще именно мне, поскольку я была моложе и жизнеспособней.
Я немедленно увидела, что только любовь ко мне дает моей маме силы выжить; точно так же я знала, что не смогу выжить без нее. У меня оставалась только она, как у нее была лишь я. И после смерти отца я должна была взять на себя всю ответственность за наши жизни.
Ни моя мать, ни я не научились черпать силы в религии. Всю свою жизнь отец был по-настоящему верующим человеком, для которого исполнение обрядов не было формальностью. Он потерял все, для чего жил и работал, но никогда не отрекался от своей веры.
Я никогда не забуду, как он в нашей убогой, тесной комнатке проникновенно возносил молитву, накинув талес[3] и надев филактерии.[4] Вера поддерживала моего отца все то время, что мы жили в гетто, но я не могла верить в Бога после того, как он позволил, чтобы отца убили.
Пока отец был жив, мама всегда брала на себя в госпитале самую тяжелую и грязную часть уборки. Но после его гибели она оказалась настолько раздавленной, что мне приходилось работать за двоих. Позднее мама кое-как пришла в себя, и мы стали равноправными партнерами в борьбе, за выживание.
Мы посвятили себя друг другу. Многие преувеличивают, говоря о чем-то подобном, но мы совершили это на самом деле. Она поняла, что ее существование составляет для меня смысл жизни. И моя жизнь была для нее тем же самым.
В гетто я не посещала школу, но определенное образование все-таки получила. Это образование сводилось к урокам упорства и настойчивости. До гетто я была всего лишь прелестно одетым ребенком, незнакомым со словом «голод». Мне никогда не приходилось выполнять какую-либо работу, если не считать школьных упражнений в классе и домашних заданий. Возможно, что единственное мое свойство, приобретенное в детстве, которое мне пригодилось в гетто, — это моя решительность. Что бы ни произошло, я находила в себе силы преодолеть препятствие. Не было ничего, что пугало бы меня. Я всегда отличалась сильной волей, и мои родители ценили во мне это качество.