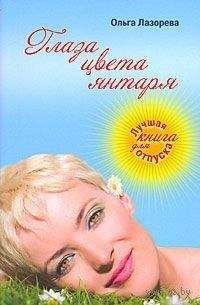Олег Лекманов - Осип Мандельштам: ворованный воздух. Биография
На мандельштамовский «Камень» (1913) было опубликовано пять рецензий: все они были благожелательными. Николай Гумилев так оценивал первый, «символистский» раздел книги: «В этих стихах свойственные всем юным поэтам усталость, пессимизм и разочарование, рождающие у других только ненужные пробы пера, у О. Мандельштама кристаллизуются в поэтическую идею-образ: в Музыку с большой буквы»[196]. «С символическими увлечениями О. Мандельштама покончено навсегда»[197] – таким выводом-прогнозом глава «Цеха поэтов» завершил свою рецензию.
Однако этот прогноз оказался несколько скоропалительным: примерно в середине 1913 года Мандельштам – подлинный «виртуоз противочувствия»[198] – предпринял попытку «покончить» не только со своими символическими, но и со своими акмеистическими «увлечениями». К этому времени наметился альянс Михаила Зенкевича, Владимира Нарбута и Мандельштама с кубофутуристами из группы «Гилея» (В. Хлебниковым, В. Маяковским, А. Крученых, Б. Лившицем, братьями Бурлюками). С Бенедиктом Константиновичем Лившицем (1887–1938) Мандельштам сошелся настолько тесно, что в своих мемуарах Лившиц даже счел возможным назвать поэта-акмеиста «товарищем по оружию»[199].
Из устных воспоминаний Михаила Зенкевича: футуристы «соглашались, чтобы туда, значит, <вошли> я, Нарбут и Мандельштам… Это они соглашались блокироваться. В это время посредником был брат <Давида> Бурлюка – Николай Бурлюк <член “Цеха поэтов”>, и вот тут <на лекции К.И. Чуковского о футуризме 5 октября 1913 года> было первое совместное выступление. Выступал, ну, теоретически больше, а не только со стихами, Мандельштам, готовил выступление. Он ко мне приходил и потом… он говорил: “Я у них был…” Ну, в общем, говорит: “Я их видел. Это такая богема, богема, знаешь. Вот пойдем на вечер… Я заново переписал это выступление” и так далее. <…> Они на лекцию Чуковского пришли… Вот пришел Маяковский, он там выступал, и выступал Мандельштам»[200].
Союз трех акмеистов-отступников с кубофутуристами в итоге не состоялся. Может быть, потому, что уж слишком разными стихотворцами были сами акмеисты. Когда Зенкевич в письме к Нарбуту предложил издать поэтический сборник на троих с Мандельштамом, он получил следующий ответ: «Относительно издания сборника – тоже вполне согласен: да, нужны – и твой, и мой. Можно и вместе (хорошо бы тогда пристегнуть стихи какого-либо примкнувшего к нам кубиста). Мандель мне не особенно улыбается для этой именно затеи. Лучше Маяковский, или Крученых, или еще кто-либо, чем тонкий (а Мандель, в сущности, такой) эстет»[201]. Георгий Иванов вспоминал, что Мандельштама удержал от вступления в группу «Гилея» «Бенедикт Лившиц, кстати, сам кубофутурист»[202].
В своей мемуарной книге «Полутораглазый стрелец» Лившиц, имитируя анафорическую композицию хлебниковского «Зверинца», изобразил Мандельштама в кругу петербургских поэтов-модернистов. Он описал салон «женщины редкой красоты», художницы Анны Михайловны Зельмановой-Чудовской (1891–1952), «где Сологуб неудачно острил и еще неудачнее сочинял экспромты, один из которых начинался буквально следующими строками:
Вот я вижу, там
Сидит Мандельштам…
Где автор тоненького зеленого “Камня”, вскидывая кверху зародыши бакенбардов – дань свирепствовавшему тогда увлечению 1830 годом, который обернулся к нему Чаадаевым, – предлагал “поговорить о Риме” и “послушать апостольское credo”.
Где, перекликаясь с ним, Гумилев протяжно читал в нос свой “Ислам”…»[203].
Об увлечении автора «Камня» католическим Римом и Чаадаевым речь пойдет чуть дальше, пока же самое время сказать несколько слов об увлечении Мандельштама Анной Зельмановой-Чудовской.
Из первого мандельштамовского «Камня» тема любви была старательно элиминирована. Лишь в одном стихотворении книги внимательный читатель мог обнаружить едва уловимый намек на присутствие женщины:
Медлительнее снежный улей,
Прозрачнее окна хрусталь,
И бирюзовая вуаль
Небрежно брошена на стуле.
В тех десяти стихотворениях раннего Мандельштама, которые в первый «Камень» не вошли и которые условно можно причислить к любовной лирике, облик героини также распознать очень трудно. Она или появляется на одно короткое мгновенье («Ты выскользнула в легкой шали»), или даже не появляется совсем, вопреки ожиданиям героя:
Пустует место. Вечер длится,
Твоим отсутствием томим.
Назначенный устам твоим,
Напиток на столе дымится.
Так ворожащими шагами
Пустынницы не подойдешь;
И на стекле не проведешь
Узора спящими губами…
Довольно часто, как бы стараясь удержать свою возлюбленную «в рамках» стихотворения, поэт напрямую адресуется к ней («Нежнее нежного / Лицо твое»; «Твоя веселая нежность / Смутила меня»; «Ты прошла сквозь облако тумана»). Неудивительно, что реальные имена всех этих «ты» никто из читателей не знал и никогда не узнает.
Именем Анны Зельмановой-Чудовской, «женщины редкой красоты, прорывавшейся даже сквозь ее беспомощные, писанные ярь-медянкой автопортреты»[204], открывается «донжуанский список» Мандельштама, заботливо составленный поздней Ахматовой: «Первой на моей памяти была Анна Михайловна Зельманова-Чудовская, красавица художница. Она написала его портрет на синем фоне с закинутой головой (1914, на Алексеевской улице). Анне Михайловне он стихов не писал, на что сам горько жаловался – еще не умел писать любовные стихи»[205]. Впрочем, одно из мандельштамовских стихотворений 1914 года – «Приглашение на луну» – по-видимому, было обращено именно к Анне Зельмановой: вторая половинка ее составной фамилии (Зельманова-Чудовская) напрашивается на сопоставление с первой половинкой составного образа «чудо-голубятен» из «Приглашения на луну». А звучание первой половинки фамилии художницы (Зельманова-Чудовская), возможно, отозвалось в первой половинке составной «земли-злодейки» из мандельштамовского стихотворения:
У меня на луне
Вафли ежедневно,
Приезжайте ко мне,
Милая царевна!
Хлеба нет на луне –
Вафли ежедневно.
На луне не растет
Ни одной былинки;
На луне весь народ
Делает корзинки –
Из соломы плетет
Легкие корзинки.
На луне полутьма
И дома опрятней;
На луне не дома –
Просто голубятни;
Голубые дома –
Чудо-голубятни.
Убежим на часок
От земли-злодейки!
На луне нет дорог
И везде скамейки,
Что ни шаг, то прыжок
Через три скамейки.
Захватите с собой
Молока котенку,
Земляники лесной,
Зонтик и гребенку…
На луне голубой
Я сварю вам жженку.
Процитированное стихотворение правомерно назвать хотя и робким, но все же вполне отчетливым наброском к будущей «любовной лирике» Мандельштама. «Это из “взрослых” стихов, и приглашалась, наверное, вполне взрослая женщина», – проницательно предполагала много лет спустя вдова поэта[206].