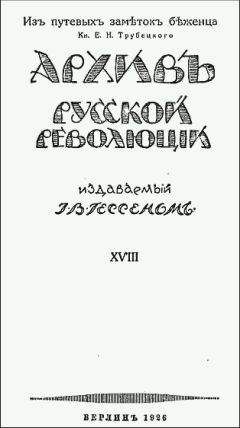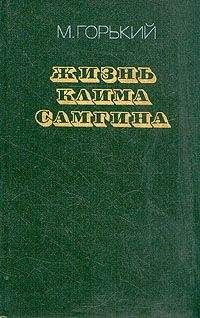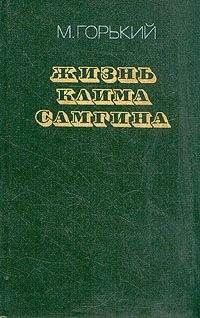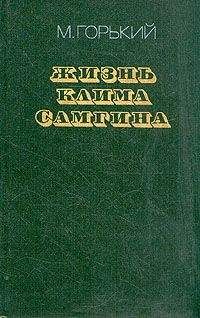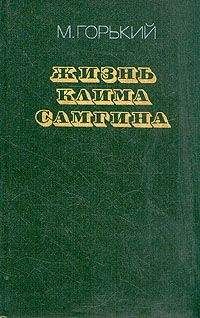Бертран Рассел - Автобиография
Нет конца вечной вражде, вражде между маленькими радостями и великой болью. Я знаю, что маленькие радости — это смерть, и все же — я так устал, я так сильно устал. Во мне не на жизнь, а на смерть борются разум и чувство, отнимая всю мою энергию, которую я мог бы потратить в своих целях. Я знаю, что без борьбы не достичь ничего стоящего, ничего не достичь без жестокости, организованности и дисциплины. Я знаю, что ради коллективного действия индивид должен быть превращен в механизм. И хотя разум понуждает в это верить, меня это не вдохновляет. Я люблю отдельную человеческую душу в ее одиночестве, в ее надеждах и страхах, внезапных порывах и странных привязанностях. Как далеко от нее до армий, государств и чиновников; но проделать этот путь — единственный способ избежать бесполезной чувствительности.
В суровые годы войны я мечтал о счастливом дне, когда она кончится, когда мы сядем с тобой в солнечном саду у Средиземного моря, наполненном ароматом гелиотропа, окруженном кипарисами и священными падубовыми рощами, — и тогда, наконец, я смогу сказать тебе о моей любви и прикоснуться к радости столь же настоящей, как и боль. Это время пришло, но у меня другие дела, а у тебя иные желания; и когда я сижу, погруженный в свои мысли, все дела кажутся мне тщетными, а все желания бессмысленными.
И это не подвигает меня к действиям.
12 мая 1920 г.
Петроград
Наконец я здесь, в городе, который открыл миру новую страницу истории, разжег самую смертельную ненависть и самые безумные надежды. Откроет ли он мне свою тайну? Узнаю ли я его сокровенную душу? Или получу только статистические данные и голые факты? Пойму ли я то, что увижу, или все это останется для меня странным и непонятным спектаклем? Глухой ночью мы вышли на пустой станции, и наш автомобиль загрохотал по спящим улицам. Из окна гостиницы я смотрел через Неву на Петропавловскую крепость. Река тускло блестела в свете северной зари; нельзя выразить словами, как прекрасен был вид, как наполнен чарами волшебной вечной мудрости. «Чудесно», — сказал я стоявшему рядом большевику. «Да, — отозвался он. — Теперь в Петропавловке не тюрьма, а Генеральный штаб».
Я встряхнулся. «Приди в себя, дружище, — мысленно сказал я себе, — ты тут не турист, и не дело млеть от рассветов, закатов и достопримечательностей, отмеченных в путеводителе; ты здесь для того, чтобы провести социальное исследование, изучить экономику и политику. Очнись от грез, забудь о вечности. Люди, к которым ты приехал, назвали бы все это буржуазными фантазиями бездельника, и положа руку на сердце ты мог бы с ними согласиться». И я вступил в разговор, пытаясь выяснить, как купить зонт в советском магазине, что оказалось столь же непостижимо, как ускользающая суть последних тайн бытия.
Двенадцать часов, которые я уже потратил на разгадки русской души, дали пока лишь повод для иронии. Я был готов к материальным трудностям, неудобствам, грязи и голоду, которые, я полагал, должно скрасить ощущение великой надежды. Наши товарищи-коммунисты, без сомнения правомерно, сочли за лучшее избавить нас от лишений. Не успели мы вчера после обеда пересечь границу, как нам уже устроили два банкета, накормили хорошим завтраком, угостили первоклассными сигарами, а ночь я провел в огромной дворцовой спальне, сохранившей всю старорежимную роскошь. На всем пути следования наш вагон тщательно отделяли от толпы цепью солдат. Кажется, меня погрузили в великолепие огромной военной империи. Так что надо перенастроиться. Для этого нужен цинизм, а у меня его маловато. В результате я задаю себе один и тот же вопрос: в чем тайна этой раздираемой страстями страны? Ведома ли она большевикам? Догадываются ли они вообще о существовании такой тайны? Сомневаюсь.
13 мая 1920 г.
Петроград
Я попал в странный мир, мир умирающей красоты и тяжкой жизни. Меня все время тревожат фундаментальные вопросы, страшные, неразрешимые вопросы, которые никогда не задают себе мудрые люди. Пустые дворцы, и переполненные столовые, разрушенное или мумифицированное в музеях былое великолепие и наряду с этим расползающаяся по городу (благодаря вернувшимся беженцам) самоуверенная американизация. Все систематизируется; все должно быть организовано и справедливо распределено. Одно и то же образование для всех, одно и то же жилье, одни и те же книги и одна на всех вера в то, что происходящее совершенно: для зависти нет места, разве что к счастливым жертвам несправедливости, живущим за границей.
Потом я пытаюсь взглянуть на то же самое с точки зрения оппонента. Вспоминаю «Преступление и наказание» Достоевского, «В людях» Горького, «Воскресение» Толстого. Думаю о жестокости и разрушениях, на которых было построено былое великолепие; о бедности, пьянстве, проституции, прожитых впустую жизнях; думаю о поборниках свободы, томившихся в Петропавловской крепости; вспоминаю убийства, погромы, избиения. Через ненависть к прошлому я становлюсь терпимее к новому, но не могу возлюбить это новое ради него самого.
И все же я виню себя за то, что не могу его полюбить. В нем проявились обычные для всего нового свойства — безобразие, брутальность, но в то же время — энергия созидания, и вера в истинную ценность творимого. Когда создаешь механизм общественной жизни, некогда задумываться о чем-либо ином. Когда же новое общество будет в основном построено, появится время задуматься о том, как вдохнуть в него душу, — так я, по крайней мере, считаю. «У нас нет времени для нового искусства и новой религии», — нетерпеливо говорили мне. Возникает, однако, вопрос: можно ли сперва создать тело и только потом впрыснуть в него соответствующее количество души? Может быть, но я как-то сомневаюсь.
Я не нахожу никакого теоретического ответа на эти вопросы, зато на них яростно отвечают мои чувства. Я бесконечно несчастен в этой атмосфере — удушающей атмосфере примитивной целесообразности, безразличия к любви и красоте, к спонтанности жизни. Я не способен придавать такое значение примитивным нуждам, как здешние власти. Это несомненно связано с тем, что мне не пришлось провести в нужде и голоде полжизни, как им. Но разве нужда и голод и впрямь делают человека мудрее? Разве они помогают ему осознать идеалы, которые должны вдохновлять каждого реформатора? Не могу избавиться от мысли, что они скорее сужают горизонт, чем раздвигают его. И все же червь сомнения грызет меня, и я разрываюсь между двумя ответами на этот вопрос…
2 июня 1920 г.
На Волге
День за днем плывет наш пароход вдоль неизвестных таинственных берегов. Компания у нас шумная, веселая, задиристая, охотно изобретающая всяческие теории для объяснения всего и вся, уверенная в том, что нет ничего и никого, что ей не под силу понять. Один из нас лжет, стоя одной ногой в могиле (Клиффорд Аллен), из последних сил сражаясь с собственной слабостью и равнодушием тех, кто в добром здравии, под денный и нощный аккомпанемент любовных воплей и смеха. А вокруг — великое безмолвие, необоримое, как Смерть, неисчерпаемое, как небо. Однако слушать это молчание всем недосуг, хотя оно так неотступно зовет Меня, что я остаюсь глух к пропагандистским речам и бесконечной болтовне тех, кто в курсе всего на свете.