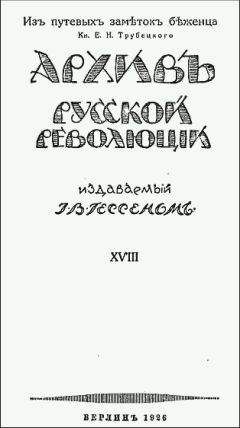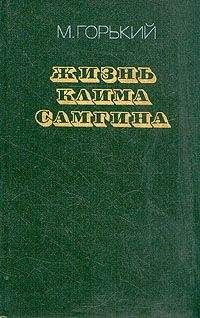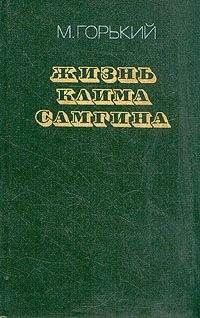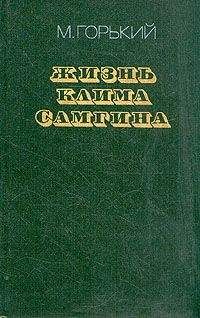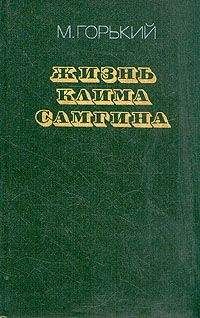Бертран Рассел - Автобиография
Витгенштейн был не только логиком, но еще и патриотом и пацифистом. Он придерживался очень высокого мнения о русских, с которыми братался на фронте. Он рассказывал, как однажды в галицийской деревушке от нечего делать набрел на книжную лавку, а в ней была одна-единственная книга — размышления Толстого о Евангелии. Он купил ее, прочел, и она оказала на него глубокое действие. На какое-то время он сделался весьма религиозным, ему даже казалось недостойным общаться со мной. Чтобы заработать на жизнь, Витгенштейн уехал учительствовать в начальной школе в австрийской деревне Траттенбах. Он, бывало, писал мне оттуда: «Жители Траттенбаха безнравственны». Я отвечал: «Все люди безнравственны». В ответ он писал: «Это правда, но жители Траттенбаха безнравственны более других». Я отвечал, что такое заявление противно логике. Но у него было оправдание: крестьяне отказывались снабжать его молоком, считая, что арифметика, которой он учит их детей, не имеет никакого отношения к деньгам и материальным расчетам. Он, должно быть, страдал от голода и лишений, но из его уст почти никогда не срывалось ни слова жалобы, он обладал дьявольской гордыней. Его сестре пришла в голову удачная мысль начать строительство дома и нанять его в качестве архитектора. Это обеспечило ему несколько лет безбедного существования, а потом он поступил преподавателем в Кембридж, где сын Клайва Белла[19] сочинял на него эпиграммы. Он не умел общаться с людьми. Уайтхед так описывал первый визит к нему Витгенштейна: его проводили в гостиную, где семья пила чай; не заметив присутствия миссис Уайтхед, он некоторое время молча шагал из угла в угол, а потом его как прорвало: «Пропозиция имеет два полюса. Это a и b». «Я, — рассказывал Уайтхед, — естественно, спросил, что такое а и b, но осекся, поняв, что сказал глупость. „А и b не определяются“, — громовым голосом возгласил Витгенштейн».
Как у всех великих людей, у него были свои слабости. В 1922 году, в самый разгар его мистического вдохновения, когда он со всей серьезностью уверял меня, что лучше быть добрым, нежели умным, выяснилось, что он до ужаса боится ос и клопов и не может из-за них остаться на еще одну ночь в гостинице, которую мы сняли в Инсбруке. После путешествия по России и Китаю я приобрел иммунитет против такого рода неудобств, но в данном случае все доводы были бессильны. Если не считать этих маленьких фобий, он был личностью совершенно необыкновенной.
Почти весь 1920 год я провел в поездках. На Пасху меня пригласили с лекциями в Барселону, в Каталонский университет. Из Барселоны я поехал на Майорку, где остановился в гостинице Соллера. Старый хозяин гостиницы (единственной в этой местности) объявил, что поскольку он вдовец, то готовить еду не сможет, зато мне позволяется в любое время срывать в саду апельсины. Он сказал это с таким величественным видом, что мне ничего не оставалось, как выразить глубочайшую признательность. На Майорке у меня началась великая распря с Дорой, не прекращавшаяся много месяцев на всех широтах и долготах.
Я планировал отправиться в Россию, и Дора собиралась ехать со мной. На мой взгляд, ехать ей туда смысла не было, поскольку она не проявляла особого интереса к политике, тем более что поездка могла оказаться довольно рискованной из-за свирепствовавшего в стране тифа. Но мы оба были неуступчивы, и компромисс был недостижим. До сих пор считаю, что прав был я, а она думает, что права была она.
Вскоре после возвращения с Майорки выдался случай ехать в Россию. Туда отправлялась делегация лейбористов, которые пожелали, чтобы я отправился вместе с ними. Правительство рассмотрело мое заявление, и после беседы у Г. А. Фишера[20] мне разрешили присоединиться к ним. Договориться с советским правительством было гораздо труднее, и когда я уже добрался до Стокгольма, Литвинов все еще отказывал мне в разрешении на въезд, несмотря на то что мы сидели вместе в тюрьме Брикстон. Наконец все недоразумения с советским правительством были улажены. Компания у нас подобралась забавная. Миссис Сноуден, Клиффорд Аллен, Роберт Уильямс, Том Шоу, невероятно толстый и старый трейд-юнионист по имени Бен Тернер, совершенно беспомощный без жены и просивший Клиффорда Аллена снимать ему ботинки, Хейден Гест, сопровождавший делегацию как врач, и еще несколько профсоюзных чиновников. В Петрограде, где в наше распоряжение предоставили императорский автомобиль, миссис Сноуден, сидя за рулем, восхищалась его роскошью и выражала сочувствие «бедному царю». Она и Хейден Гест, теософ с пылким темпераментом и непомерным либидо, были настроены антибольшевистски. Роберт Уильямс чувствовал себя в России абсолютно счастливым; он был, пожалуй, единственным, кто произносил речи во славу советского правительства. Он все время твердил, что в Европе назревает революция, и Советы воспользовались его услугами. Я предупреждал Ленина, что Уильямсу нельзя верить. На следующий год, в Черную пятницу[21], он сбежал. Еще с нами был Чарли Бакстон, который через пацифизм пришел к квакерству. Когда мы жили в одном номере, он прерывал меня на полуслове, чтобы сотворить молчаливую молитву. К моему удивлению, пацифизм не привел его к осуждению большевиков.
Для меня время, проведенное в России, превратилось в постепенно усиливавшийся кошмар. Я предал бумаге свои размышления, в которых, на мой взгляд, отразилась правда, но не тот ужас, который владел мною там. Жестокость, бедность, подозрительность, преследования наполняли самый воздух, которым мы дышали. Наши разговоры постоянно прослушивались. Ночи оглашались выстрелами — это убивали в тюрьмах несчастных идеалистов. Все было пропитано лицемерием, люди называли друг друга «товарищ», но как по-разному звучало это слово применительно, скажем, к Ленину или ленивому официанту! Как-то в Петрограде (так назывался в ту пору этот город) ко мне явилась четверка одетых в лохмотья людей, заросших щетиной, с грязными ногтями, спутанными волосами. То были самые известные поэты России. Одному из них позволили зарабатывать на жизнь чтением лекций по стихосложению, если он будет освещать предмет с марксистских позиций, и он жаловался, что хоть убей не может понять, при чем тут Маркс.
Другие оборванцы, с которыми я встретился, были членами Петроградского математического общества. Я присутствовал на одном из заседаний этого Общества, слушал доклад по неевклидовой геометрии. Я ничего не мог понять, кроме формул, записанных на доске, но, судя по ним, это был вполне компетентный доклад. В Англии я никогда не видел таких униженных и жалких бродяг, как петроградские математики. Мне не разрешили встретиться с Кропоткиным, а вскоре он умер. Представители правящего класса выглядели не менее самоуверенно, чем выпускники Итона или Оксфорда. Они были убеждены, что с помощью своей формулы счастья решат все проблемы. Те, что были поумнее, понимали, что это не так, но не осмеливались говорить вслух. Однажды в конфиденциальной беседе врач по фамилии Залкинд стал говорить, что климат оказывает большое влияние на характер, но вдруг осекся и сказал: «Это, конечно, не так. На характер воздействуют только экономические условия». На моих глазах все, что представлялось мне ценным в человеческой жизни, разрушалось в интересах узколобой философии, которую вдалбливали в ум многомиллионного народа, живущего в нищете, о которой запрещалось говорить. С каждым днем, проведенным в России, ужас мой усиливался, в конце концов я потерял всякую способность к объективному суждению.