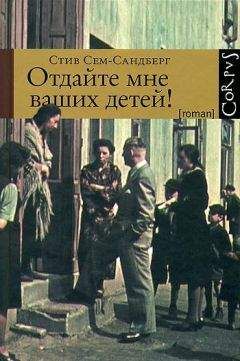Ариела Сеф - Рожденная в гетто
И уехала мама после этих визитов в убежденности, что она обязательно станет бабушкой красивых внуков и что все мои шумы в сердце после переходного возраста заглохнут, рассосутся. И вообще, ей посоветовали заниматься другими детьми, коли они у нее есть.
Маму они не убедили. Она синеву видела сразу, как только та появлялась. И решила мама следовать учению Мичурина:
– Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача.
Она купила в Москве, в магазине ВТО, жидкую помаду и румяна и стала в школу ими меня подкрашивать. Я плакала, боялась, что все поймут, что я крашусь, и позор неминуем. Что обо мне подумают? Что я гулящая? Мама решила – пусть лучше так, чем жалкая, синегубая, бледная, больная.
А там к концу школы мне обстригли жидкие косы, сшили платье из бирюзовой тафты, специально для меня заказанное горбуньей Нэсей у родственников из Америки. Получилась почти королева бала.
Мама морщилась:
– Ничего, но могло быть еще лучше.
После этого я поехала с папой на медицинский конгресс в Ленинград в новом ярко-красном костюме, с наморщенной спиной, отстоящим от шеи воротником по последней моде, купленном у той же Нэси, и замшевых туфлях на высоком каблуке, сшитых тоже на заказ.
Папа уходил с утра на заседание, а я, накрасив ресницы как у коровы, фланировала по Невскому, вызывая полное оцепенение зевак и фарцовщиков. Да и папины коллеги находили, что я стала взрослой, яркой и привлекательной девушкой. Гордости моей не было предела, но даже это не могло удовлетворить маму. Она все равно причитала, правда, уже меньше.
А через год я уехала в Москву, в иняз, а еще через год вышла замуж за француза из культурной миссии без приданого, даже без квартиры в Москве. Я вполне была довольна собой, но не моя мама. Она и тут нашла, что год назад я была просто красавицей, а теперь уже совсем не то. И так потом каждый год, когда мы виделись. За год до того я была хороша, а сейчас – не то. Так что останавливаться на достигнутом нельзя было никак. Потом я развелась, и мама замечала, что двадцать пять лет – очень молодой возраст для замужней дамы, а для невесты – староватый. Она не разрешала мне носить очки, хотя у меня близорукость –6, я ничего без очков не видела, а она мне:
– А что ты хочешь видеть? Пусть видят тебя. Одно на лице красивое – так это глаза, так и те спрячем.
Сутулиться я права тоже не имела, и мама мне об этом напоминала даже в письмах.
Приехав как-то к родителям в гости, я ждала людей с посылкой для их родственников и вышла не слишком прибранной. Мама стала меня пилить, а я:
– Подумаешь, кто они такие, что я перед ними должна наряжаться?
– Какая разница, кто они! Важно, кто ты.
Мама меня дрессировала и почти выдрессировала. Спасибо.
А отца моя внешность полностью устраивала. Лишь бы не красилась слишком вызывающе, а главное, была бы здорова. И это была большая ошибка.
Спасибо маме. Я почти превозмогла свои болезни и неполноценность. Светлая ей память.
Папа
Папа у меня был в молодости красивым: высокий, худой; быстро ходил, хорошо танцевал. В нем была какая-то врожденная элегантность. Ходил он всегда в костюме, при галстуке, хотя костюм у него был один, намного позже появился второй. Он мне очень нравился. Я замечала, что он нравился почти всем женщинам независимо от возраста. В детстве я гордилась им и важно шагала рядом на прогулках.
В ранней молодости я нисколько не огорчалась, когда нас принимали за девушку и ухажера, наоборот, когда он приехал за мной однажды в институт и все подумали, что у меня взрослый поклонник, я была безумно горда.
Стал он выглядеть на свои лета только после болезни, в пятьдесят пять лет.
Характер у него был вспыльчивый. Терпеть не мог ерничанья, обмана, хитрости. Не любил, когда люди хотели казаться не тем, кем они есть. Тогда он позволял себе грубо одернуть человека.
Никогда не пытался скрывать ни своего происхождения, ни национальности. Когда мне исполнилось шестнадцать лет, уже после окончания школы, я пошла в милицию за паспортом. В паспортном столе работала папина пациентка, и она предложила мне:
– Давай, запишу тебя литовкой; тебе в жизни будет легче.
Я сказала, что должна посоветоваться с родителями. Пришла к отцу. А он мне:
– А ты после гетто, после всего, что с тобой было, можешь это сделать?
Я отказалась к удивлению паспортистки.
Папа у нас был образцом для подражания. Если мама беспокоилась о моем внешнем виде, то папа – о внутреннем содержании и здоровье. Правда, его расстраивало мое раскрашенное лицо; какие-то пришпиленные шиньоны, приклеенные ресницы – все это было лишнее. Он хотел вырвать меня из обыденности и серости; давал читать книги о великих путешественниках, об открытиях; находил учителей французского, немецкого. В общем, совершенно бесполезные, никому не нужные старания. У него всегда находилось для нас время. Прибежит днем, проверит все, что можно, ляжет на полчаса отдохнуть и опять убежит на работу.
В воскресенье утром мы все залезали к нему в кровать. Спали мы в столовой: папа, брат Моня и я, а мама, Аня и Беня – в спальне. Но в выходной день нам никому в голову не приходило пойти к маме. Все были у папы, включая кошку и собаку. По-моему, папа у нас был мамой, а мама – папой.
Денег просили только у него. Если нужно что-то сделать – тоже он. Просьб к нему – у половины города, а он хирург, заведующий большим отделением, в котором образцовый порядок, лучший во всей больнице.
Зарабатывал он много, но ему самому деньги были не нужны, и на него их просто не оставалось. То надо достать лекарства какому-то мальчику из детского дома, то помочь устроиться семье репатриантов из Франции – неграмотной маме с четырьмя детьми, один из которых учился в Монином классе…
Обмануть его ничего не стоило, а ведь человек он был опытный, вроде характер вспыльчивый, но каждый раз верил. Эта доверчивость бесила маму.
– Дурак!
А он был вовсе не дурак. Просто верил людям. И каждый раз, когда его обманывали, расстраивался как школьник.
Врач он был хороший и известный. Один из его методов даже описан в Большой советской медицинской энциклопедии. А диссертацию он писал долго. То есть не писал – времени не было. И защитился поздно.
Зато были мы. И он был наш всегда «зеленый светофор», до самого отъезда в эмиграцию.
Париж
В Париж меня провожали до самого Бреста. Уезжала я поездом. Сборов совершенно не помню; этим занимались родители. Мне приготовили целый чемодан льняных, вручную вышитых скатертей, пододеяльников, наволочек. Я топала ногами, кричала, что все это барахло в Париж не повезу смешить людей, что там добра такого никому не надо. На что отец меня благоразумно успокаивал (он там прожил все молодые годы):