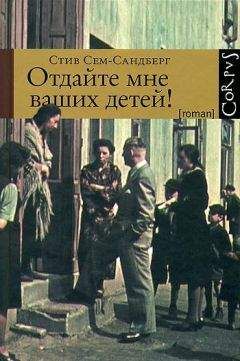Ариела Сеф - Рожденная в гетто
Директором там была Мария Ивановна, в прошлом офицер разведки, ростом и телосложением с гренадера, и были у нее две высоченные, худющие дочери, одна другой выше и бледнее. Их лечил от вечных ангин и оперировал папа; оперировал и саму Марию Ивановну, и она приняла Лилли до реабилитации. Поступок с ее стороны невероятный.
Лилли с ее немецким, «правильным» характером коробили в магазине манипуляции с товаром, и она никак не могла взять в толк, как же можно продавать второй сорт по цене первого, и другие комбинации, когда дефицит вообще не появлялся на прилавках. Ее перевели в кассиры. Лилли часто опять плакала. Не соответствовало это ее немецкому воспитанию и характеру, а любила она читать душещипательные романы, пить кофе и есть « кухен унд кезе » [14] . Так мы ее и дразнили «Кухен унд Кезе». Она занималась со мной немецким языком, пыталась поставить произношение; у меня получалось, но я очень стеснялась этой способности и боялась показаться немкой.
Дядя в новой действительности себя не нашел. Он выбрал образ «бедного принца», хотя уважение окружало его со всех сторон. Жили они разобщенно. После десяти лет разлуки и нескольких месяцев совместного проживания до ареста соединились два совершенно разных менталитета: немецкая буржуйка и книжный человек-интеллектуал.
В 1972 году они уехали в Израиль по вызову родственников; получили хорошую трехкомнатную квартиру, должны были получить и какие-то репарации, но дядя через год умер, а Лилли еще пожила несколько лет, выдала Аню замуж и тоже умерла от всех нажитых болезней.
Когда мои родители туда переехали, Лилли с Аней уже были старожилами. Отец на их адрес пересылал свою библиотеку, и как только родители прибыли, Лилли попросила, чтобы книги срочно забрали. Им, надо думать, не хватало места в трехкомнатной квартире вдвоем.
Аню мы все очень любим. Она наша сестра.
Праздники
Наша мама работает целый день. Шесть раз в неделю. Готовить она терпеть не может, и только по праздникам она проявляет свой кулинарный талант. При этом ей нельзя попадаться под руку, особенно мне; обязательно ущипнет, толкнет, накричит, но праздник ее стихия. Она очень красиво сервирует стол. Это у нее от бабушки или из Англии.
Семья у нас не религиозная, но на Пасху или Рош-Хашана гости к нам напрашиваются заранее. Приходит в обязательном порядке мой учитель музыки, маленький, хромой Иосиф Романович Ступель с женой Клавдией Ивановной, ученой из Москвы, минимум метр восемьдесят ростом, и не еврейкой и с собачкой-шпицом Муриком, а остальные – время от времени меняются. Профессор Одинов. Из Москвы его выслали, или он сам убежал от преследований в связи с делом врачей. Это очень красивый, вальяжный мужчина, большой эрудит и дивный рассказчик, и немного фантазер, по происхождению он бакинец. Вся семья его осталась в Москве. Татьяна Наумова – русская красавица с косой – чистая еврейка, и ее муж – доктор Петр Наумович Резников. Мои дядя с тетей после отсидки и с сестрой Анечкой. Приходили бы еще многие, но мы эти приемы не афишируем. Зато в дни рождения, Новый год у нас настоящая гульба. Приглашают человек двадцать – тридцать. Составляют все столы и стулья из нашей квартиры и от тети Поли. Приходят друзья родителей, с некоторыми из них они были в гетто.
Все дамы нарядные, с укладками; профессор Розенблюм сидит за пианино. Жена знаменитого архитектора Бруна поет; если бы не война, она бы с успехом закончила консерваторию. Аба Гроссман – рассказчик анекдотов, он у нас главный тамада. По-моему, добрая половина еврейской каунасской интеллигенции бывает у нас на этих торжествах. Иногда праздник устраиваем вскладчину.
Живем мы на центральной улице, Сталинском проспекте, в отдельной трехкомнатной квартире. В начале вечера широко открываются окна, и все громко поднимают тосты за товарища Сталина, за Ленина, за нашу прекрасную жизнь. Поют «Широка страна моя родная», какую-то песню по-еврейски, из которой я помню только «Хавер Сталин! Хавер Ленин! Ай-яй-яй-яй-я-я!». Получается очень слаженно.
После этого представления окна наглухо закрываются, и репертуар резко меняется. Бруниха затягивает песню. К ней присоединяется жена доктора Лившина. Они поют на два голоса. Майн штетеле Бельц, А идише маме , и Офн припечек . Затем Ломир алэ ин эйнем, ин эйнем … Все подхватывают, вспоминают войну. Пьют за погибших, за родителей. Потом все же переходят на танцы, которые мой отец терпеть не может. Для него это принудиловка. Мама его заставляет танцевать со своими подругами, а эти дамы, как партнерши по танцполу, его никак не интересуют, когда на свете столько молодых и красивых, а отец хорошо танцует. И танго, и чарльстон.
Расходятся все поздно ночью.
Такими я запомнила наши вечера.
Мама
Мама моя была женщиной мягкой и дипломатичной, но это никак не распространялось на меня. И спасибо ей за это. В раннем детстве она считала меня умницей, красавицей и ярким талантом в области балета, но я ее разочаровала. В балетный класс я перестала ходить в восемь лет после скарлатины, а к двенадцати – изящество все мое куда-то испарилось. Я стала резко дурнеть, а главное, губы стали синеть. Я и раньше иногда синела, но мама это умела скрыть, скорее стушевать, говоря удивленным знакомым и друзьям, что я съела много черники или вишни.
Но что делать зимой, когда никаких ягод нет и тебе хочется идти на каток? Мама считала, что можно найти более теплое место, чем каток, но меня синева не смущала. Все девочки на катке разрумяненные, с ними катаются мальчики, а я синегубая и со мной – одни девочки, которых не разобрали. Мама стала причитать, что ничего не поделаешь, что я уже тип старой девы, синий чулок. Синюха. Короче, ей надо с этим мириться. Акции мои чуть-чуть повышались летом, но как-то, в четырнадцать лет, я на пляже в Паланге чуть не отошла в мир иной. Мой брат Соломон и мамин сослуживец разыскали спасателей тут же на пляже, и меня через сорок минут откачали. Это обсуждалось на виллах политехнического и медицинского институтов, считай во всей Паланге. Такого позора мать не ожидала, и на следующий год летом вместо Паланги мы поехали в Москву, запасшись всеми рекомендательными письмами к столичным кардиологическим и педиатрическим светилам.
Я к тому времени подросла, получшала, и наши родственники, тетя Тамара, мамина двоюродная сестра, и ее муж – композитор Эдуард Калмановский, у которых мы жили в это лето то в Москве, то в Рузе на даче, не могли понять, зачем столько медицинских визитов здоровой девчонке. Профессура тоже была в недоумении. В основном дети в приемных были заморышами, часто даунами, и мы резко выделялись; нас даже за пациентов не принимали.