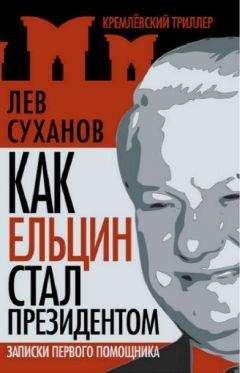Кронпринцы в роли оруженосцев - Александров Валентин Алексеевич
Человек владеет сведениями, только пока они сидят в нем. Слетев с языка, сведения распространяются со скоростью размножения бацилл. Число осведомленных удваивается от каждого цикла разговоров. А подлинность пропорционально этому уменьшается. В конечном итоге они возвращаются к источнику сведений, только в страшно искаженном виде. В быту это называется сплетня. В сфере полицейских отношений — донос. В политических кругах — доверительная информация.
Много лет спустя я узнал, что так же, как со мной, Русаков задушевно делился сомнениями со своим первым заместителем О. Рахманиным, с заместителем Г. Шахназаровым и людьми своего круга — некоторыми секретарями ЦК. И для каждого по разным соображениям циркуляция сведений была нежелательной. Поэтому разговоров не было. По крайней мере, в моей среде.
Дня через два после первого нашего телефонного разговора о намечаемой отставке вновь последовал звонок Русакова и вопрос, нет ли кого лишнего в моей комнате, затем доверительное обращение:
— Вы печатаете на машинке? Если так, то прошу перепечатать мое заявление, которое не хочу показывать никому другому.
Зашел к нему. Отдает от руки написанное мелким узловатым почерком пространное заявление на имя генерального секретаря. Говорит:
— Посмотрите внимательно, возможно, у меня не все складно получилось, откровенно скажите, какие будут замечания.
Действительно, заявление написано так, будто сам Русаков не то чтобы просит, а скорее добивается своей отставки, сопровождая это обращение заверениями, что и впредь готов все силы и знания отдать делу партии. Из текста однозначно вытекает инициативный характер просьбы освободить от должности секретаря ЦК.
Перепечатал заявление. И не один раз, а три или четыре, потому что по каждому варианту он делал какие-то изменения чисто стилистического свойства, не меняющие суть обращения, а скорее расцвечивающие новый политический курс Горбачева.
Через какое-то время Русаков сказал также по телефону:
— Все. Отдал Михаилу Сергеевичу заявление. Он очень удивился, сказал, что не хотел бы сейчас расставаться, предстоит большая работа, но раз ты так настаиваешь, говорит, я передам заявление членам политбюро, а там уж как решат товарищи.
Заседания политбюро тогда проходили каждую неделю по четвергам, начинаясь обычно в одиннадцать утра. После двух заседаний Русаков несколько растерянно говорит:
— Горбачев будто бы и забыл о моем заявлении, ни звука об этом, хотя поручения в мой адрес дает; спросить его неловко, ему виднее, как поступить.
Только на третьем заседании политбюро Горбачев прореагировал на заявление, и то несколько странным образом, о чем Русаков рассказывал подробно и при нескольких наших разговорах, видимо, осмысливая логику действий генерального секретаря. В передаче Русакова дело обстояло так:
— Закончилось заседание. Как обычно, идет какой-то обмен мнениями. Я встал, собираю свою папку с бумагами. Вдруг ко мне подходит Михаил Сергеевич. Берет за плечи, ну так, как вы знаете, он умеет это делать, по-товарищески, тепло. Говорит достаточно громко: «Костя, дорогой, твое обращение я не забыл, но подожди немного». Все, кто был на заседании, — продолжал рассказ Русаков, — примолкли, вслушиваясь, что сказал генеральный, но никто не спросил, о чем идет речь. Видимо, посчитали неудобным, если Михаил Сергеевич не счел необходимым раскрыть суть разговора. Ну и я, естественно, не стал ни с кем пускаться в объяснения.
Это было похоже на истину. По крайней мере в том, что Горбачев со всеми партийцами говорил только на «ты». Это относилось и к Русакову, который был почти на четверть века старше, но не мог позволить себе ответить таким же образом.
Еще через две недели Горбачев в конце заседания политбюро как о вынужденном обстоятельстве рассказал о заявлении Русакова, произнес прочувствованные слова в его адрес, сказал, что такого опытного партийца будет недоставать Центральному Комитету. Тем не менее предложил удовлетворить просьбу. Поставил этот вопрос на голосование. Никто больше не сказал ни слова, все проголосовали «за».
Вскоре состоялся Пленум Центрального Комитета, который утвердил освобождение Русакова от должности секретаря ЦК. Он был освобожден и от обязанностей заведующего отделом. Никто даже не задал вопроса, кем он будет, хотя бы, временно, заменен. На следующий день после пленума я проводил Русакова до машины, которая стояла уже не у подъезда, а на противоположной стороне проезжей части. Машина была не «членовоз» марки «ЗИЛ», а рядовая «волга». Торжественных проводов не было. Начиналась смена кадров, которой был придан подчеркнуто будничный характер.
Лишь когда закрылись за Русаковым двери здания ЦК, постепенно в разговорах выяснилось, что он не только делился намерением уйти в отставку со своими заместителями, но и давал кое-кому посмотреть проект заявления, чем и объяснялась необходимость перепечатывать несколько раз его текст. Круг этих людей, видимо, включал и некоторых коллег Русакова из числа давних заведующих отделами ЦК.
Когда же заявление оказалось в папке генерального секретаря, тот ознакомил с ним доверительно, в разговоре один на один, еще с десяток высоких руководителей, чья отставка ставилась на очередь. Каждому из них говорилось нечто такое: вот какой высокосознательный партиец Русаков, понял важность омоложения руководства; надо его с честью проводить, хорошо обеспечить, подумать, как и дальше привлекать к работе Центрального Комитета.
В результате несколько человек вслед за Русаковым ушли со своих постов еще до съезда партии. Но массовым это движение не стало. Затем прошло первое крупное отстранение ветеранов на самом съезде КПСС в марте 1986 года.
Наконец, следующая волна еще через полтора года довершила радикальное обновление руководства партии, которое захватило как членов политбюро, так и первых секретарей обкомов.
В обшей сложности более двухсот руководителей не только сняли со своих постов, но и вывели из состава Центрального Комитета. Таким образом, они уже никак не могли осложнить положение генерального секретаря, который, согласно Уставу партии, зависел именно от них как от членов высшего органа партии, избранного съездом.
В разговоре М.С. Горбачева с каждым из увольняемых хотя бы чуточку преломлялась модель устранения Русакова, по крайней мере такие ее слагаемые: генеральный секретарь благодарит за самостоятельное решение оставить свой пост, что касается материального положения, то оно будет близко к прошлому, руководство партии и дальше будет рассчитывать на ваше активное участие в перестройке.
Никто не сказал ни слова против. Думаю, что заверение в сохранении достойного материального обеспечения играло немаловажную роль. Каждый из увольняемых явственно понимал, что в случае возражения может лишиться всего. Что же касается высоких принципов сознания ответственности за будущее страны, то скорее всего это было вытравлено еще на заре профессиональной партийной деятельности. А может быть, эти чувства большинству не были ведомы никогда.
Примечательно, что обновленческая деятельность Горбачева не коснулась тех, кто более четко обозначил свою позицию и, возможно, был способен возразить против своего увольнения, как, например, Е.К. Лигачев. Даже при явной несовместимости с генеральным секретарем он не был пущен в кадровый омут.
М.С. Горбачев активно использовал версию инициативы К.В. Русакова в омоложении руководства КПСС и в начавшемся тогда воздействии на лидеров социалистических стран старшего поколения от Гусака в Чехословакии до Цеденбала в Монголии. Здесь тоже ставилась задача передачи власти более молодым. Лишь в разговоре с венгерским руководителем Яношем Кадаром в начале ноября 1977 года Горбачев изменил тактику и решил воздействовать на этого сложного для себя собеседника с позиций истины. «Если бы вы знали, — сказал он с нотками исповедальной искренности, — как много сил нам пришлось потратить, чтобы уговорить Русакова подать, наконец, заявление об отставке».