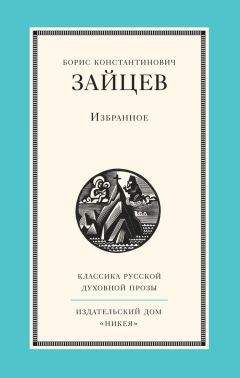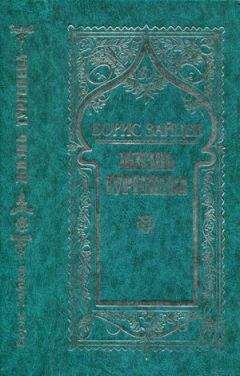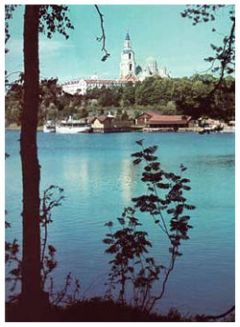Жуковский. Литературная биография - Зайцев Борис Константинович
Вот запись Маши (ноябрь) — не из веселых: «После ужина он опять был пьян. У мама пресильная рвота, а у меня идет беспрерывно кровь горлом. Воейков смеется надо мной, говорит, что этому причиною страсть, что я так же плевала кровью, когда собиралась за Жуковского, что через год, верно, от какого — нибудь генерала будет та же болезнь».
В гадких этих намеках разумеется Мойер. Он просил уже руки Маши, но ему отказали. Теперь положение иное. С одной стороны — Жуковский произвел из Петербурга последнюю попытку воздействовать на Екатерину Афанасьевну: по его просьбе Павел Протасов написал ей еще письмо, все о той же возможности брака Жуковского. (Кажется, именно это письмо и ускорило события в Дерпте, всех растревожило.) Затем, положение Маши из — за Воейкова становилось невыносимым. «После ужина он опять пьян, грозит убить Мойера, маменьку и зарезаться». «Если бы Жуковский и Кавелин могли бы видеть один из этих ужасных вечеров, они бы сжалились над нами».
Мойера он грозится убить потому, что Маша, да и Екатерина Афанасьевна решили на этот раз Мойеру не отказывать. Произошло это в отсутствие Воейкова — он уезжал в Петербург по делам к Жуковскому и Кавелину (с последним вышли у него неприятности). И вдруг оказалось, что Мойер жених Маши. До Маши — то Воейкову дела мало, но как так решили без него, да еще новый соперник в семье, новый и сонаследник по Муратову — и во всяком случае, полный защитник Маши; с г-жой Мойер не станешь уж так обращаться, как с безответной Машей Протасовой.
Маша совсем не имела к Мойеру чувства, как к Жуковскому, — видимо, просто он расположил ее к себе качествами бесспорными. И не ее одну, всех располагал. В Дерпте пользовался отличной славой. Достаточно ли этого для брака, другой вопрос. Но Маша явно была в безвыходности: или продолжать мучительную жизнь при Воейкове, на замужество с Жуковским не рассчитывая, или все резко переломить. В своей тишине, в слезах смиренных приняла она решение, частию похожее на самозаклание. Но ведь вообще была из породы агнцев. «Мой милый, бесценный друг… Я не закрываю глаза на то, чем жертвую, поступая таким образом». А вот оказывается, что этим дает счастье матери и еще доставит ей «двух друзей».
В отстранении «себя», в жизни «без счастия» видна ученица Жуковского. Будто и не из сильных, но когда надо вкусить горечь, силы находятся. Чтобы «маменьке» было покойнее, для этого и ломать жизнь.
Жуковский все это принял с горячностью крайней. Поражен, негодует. Считает, что Машу насильно хотят выдать. Не может быть, чтобы взаправду она полюбила, так скоро, так сразу забыла все прошлое. Нет, невозможно. Письмо его (25 декабря 1815) — целое произведение. И спор, и нападение, и выдержки из ее письма, и опровержения. Ему нелегко. Возражать вообще против того, чтобы Маша вышла замуж, нельзя — с ним самим брак невозможен. Он и не возражает. Но хочет, чтобы сделано было по ее воле и с известной разумностью. Пусть она пораздумает, приглядится. Против Мойера он ничего не имеет, но она почти и не знает его, для чего же спешить?
Это, в сущности, уже поражение. Уже признается, что Маша должна выйти не за него, а за другого, уж и другой этот не таков, каким был Красовский… — вопрос только в том, не вынуждено ли у нее решение, и если оно свободно, то пусть пройдет хоть некоторый срок. А затем, надо самому посмотреть.
В январе он опять уже в Дерпте, чтобы самолично «вложить персты», вновь вблизи перестрадать, прикрываясь возвышенным прекраснодушием, и убедиться, что другого выхода нет. Лучше Мойера не найти. Мойер любит ее высокою, преданною любовью.
Вот живут они трое, бок о бок — Мойер, Маша, Жуковский — в этом немецко — университетском Дерпте. Медленно, неотвратимо уходит счастье Жуковского — в пышных и возвышенных словах, в призываниях дружбы, мира, спокойствия — именно и уходит. Теперь Екатерина Афанасьевна спокойна. Не боится уже. Жизнь Маши на рельсах. С Жуковским не возбраняется и разговаривать наедине, и гулять, все уже решено. Только Воейков беснуется: никак не может принять, что не он один в доме. И среди безобразий своих вдруг напишет чувствительное послание жене, о Жуковском отзовется превыспренно, можно подумать, что и он вот, Воейков, тоже из стана поэтов. Но никто всерьез этого не подумает, только скажет, что душа человеческая пестра и противоречива. Одной краской ее не напишешь.
В Дерпте Жуковский входит в жизнь города — университетскую, литературную и духовную. Много знакомств с профессорами типа Эверса и других, со студентами вроде Зейдлица. Поэзия германская являлась тоже: занялся он Геббелем («Овсяный кисель») — нельзя сказать, чтобы уж очень блестяще. Университет поднес ему доктора honoris causa, дело рук новых друзей, может быть и не без Мойера. Но это все лишь поверхность. «Из глубины воззвах» этого времени надо считать «Песню»:
Не все покойно в отказавшемся Жуковском. Из — под торжественного облачения душевного доходят стоны. Душа стремится в край,
Пушкин сидел еще в Лицее, а в литературе раздавались уже звуки, которые он подхватит, взовьет, возведет в перл. Но раздались — то они у Жуковского. Он русский Перуджино, чрез которого выйдет, обгоняя и затмевая, русский Рафаэль.
В это же время написано «Весеннее чувство» («Легкий, легкий ветерок, что так сладко, тихо веешь…») — с той спиритуальной легкостью, которая лишь одному Жуковскому и свойственна. «Воспоминание» весомей — грусть что — то да значит («И слез любви нет сил остановить…»). Тут же и другая «Песнь» («Кольцо души — девицы я в море уронил»).
А жизнь и события ее тедпи. Жуковский любил называть странствие наше ночною дорогой, где расставлены фонари, освещающие путь, — память о прожитом и есть память о светлых этих участках близ фонарей. Свадьба Маши и Мойера (14 января 1817) была, разумеется, для него большой вехой, но, конечно, уже не фонарем, радостно что — то освещающим.
Вот как описывает он себя после ее свадьбы: «Мое теперешнее положение есть усталость человека, который долго боролся с сильным противником, но, боровшись, имел некоторую деятельность; борьба кончилась, но вместе с нею и деятельность. К этой деятельности душа моя привыкла: эта деятельность была до сих пор всему источником».
И дальше: «Я не могу читать стихов своих… Они кажутся мне гробовыми памятниками самого меня; они говорят о той жизни, которой для меня нет».
Он вступал в некоторый душевный туман — или оцепенение.
При дворе
Осенью 1816 года красавец огромного роста, с которым познакомил Жуковского у императрицы Марии Федоровны Уваров, уехал в Берлин: налаживался брак его с Шарлоттою, дочерью знаменитой Луизы Прусской.
Эта Шарлотта, видная, замкнутая и просвещенная девушка, провела детство и отрочество в изгнании — Наполеон был врагом всей королевской семьи. Они жили уединенно и бедно, пока по Европе шумел победитель. В сыром, скучном Мемеле Луиза приучила свою Шарлотту к труду, чтению, религии. Позже они перебрались в Кенигсберг. А с падением Наполеона — вновь в Берлин.
Русский великий князь для немецких королей находка. Николай всю осень провел в Шарлоттенбурге, где жил двор, — кроме невесты, больше всего занимался парадами и военными делами. А потом уехал дальше, побывал в Англии. Но свадьба решена была окончательно, и священник Музовский стал подготовлять Шарлотту к переходу в православие.
На следующий год, через четыре месяца после свадьбы Маши и Мойера, Шарлотта выехала уже в Россию — для бракосочетания.