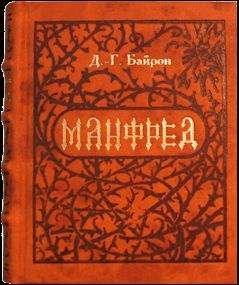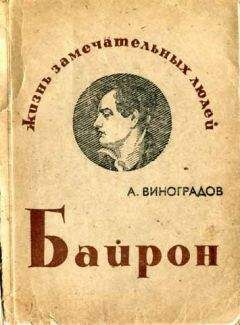Лесли Марчанд - Лорд Байрон. Заложник страсти
В таких отношениях были и восторг, и отвратительный привкус страха. Байрон хотел, чтобы его чувства разделял Хобхаус, «но, – вспоминал он тут же, – ты так упрям и раздражителен, что я даже рад твоему отсутствию. И все же я люблю тебя, Хобби, потому что у тебя так много положительных качеств и так много отрицательных, что невозможно жить с тобой и без тебя». О своих поездках Байрон писал: «Николо сопровождает меня по своей воле, путешествую ли я по морю или по суше». И тут же добавляет: «Я собираюсь возобновить ежедневные конные прогулки в Пирей, где буду плавать, несмотря на жару… Забавно, что турки, как и твой покорный слуга, купаются в нижнем белье, а греки без него…» Мур позднее писал, что больше всего Байрону нравилось, «купаясь в каком-нибудь отдаленном месте, взобраться на скалу, возвышающуюся над морем, и так сидеть часами, глядя на небо и морские волны…». Мур добавляет, что он так полюбил эти одинокие прогулки, «что даже общество его спутника Хобхауса становилось обузой и сковывало его…». Неудивительно, что Хобхаус, который лучше знал Байрона, размышлял: «На каком основании Том делает этот вывод? Он не имеет ни малейшего представления об истинной причине, побуждавшей лорда Байрона отказываться от постоянного общества англичанина». Хобхаус был для Байрона олицетворением английского духа.
Как-то раз, вернувшись с очередной прогулки в Пирее, Байрон повстречал группу людей, которые должны были привести в исполнение приговор воеводы Афин в отношении девушки, обвиненной в измене. Ее зашили в мешок и собирались бросить в море. Это была турчанка, которую Байрон, вне всякого сомнения, знал, хотя, насколько хорошо, никогда не говорил, и он решил спасти ее. С помощью угроз и подкупа (причем последнее оказалось более действенным) Байрон убедил воеводу отпустить девушку и ночью отправить ее в Фивы[9]. Это событие позднее послужило основой для эпизода «Гяура», страстные строки которого могут говорить о личных переживаниях автора. Байрон признался: «…невозможно было описать все чувства, даже воспоминание о них леденит душу».
Из писем Байрона очевидно, что он вновь вернулся к безумным страстям, которым предавался в Лондоне зимой 1808 года, и по обычным причинам – разочаровании в идеале и неверии в счастливое будущее – осуществлял свои самые дерзкие юношеские мечты. В письмах к Хобхаусу он ясно намекает, что в Афинах был замешан во множестве интриг, большая часть которых предполагала физическую близость. Тот факт, что он говорит о них намеками и игривыми недомолвками, подчеркивает, что это были не такие связи, которыми можно дерзко похвастаться. 23 августа он писал: «Большую часть дня я занимался спряжением греческого глагола «обнимать»… Уверяю тебя, я сделал большие успехи, но, подобно Цезарю, «nil actum reputans dum quid superesset agendum», должен вернуться к развлечениям, а потом напишу… Надеюсь избежать лихорадки, по крайней мере до конца этого романа, а после пусть попробует». «Развлечения» (во многих письмах именуемые по-латыни «plen. and optabil. Coit.») – шутливый пароль, известный Мэттьюзу и всем друзьям Байрона и обозначающий возможности для физического наслаждения. Несколько недель спустя он писал: «Скажи М. (Мэттьюзу. – Л.М.), что у меня было больше двухсот развлечений, от которых я ужасно устал. Ты ведь знаешь монастырь Менделе? Именно там я совершил свои «подвиги». В то время как эти намеки и ключевая фраза из сочинений Петрония о соблазнении мальчика предполагают связи с мужчинами, существует достаточно доказательств того, что Байрон не отказался также от любовных интриг с жительницами Афин всех национальностей. С обычной откровенностью, которая касается всех его связей с женщинами, он писал Хобхаусу до своего отъезда из Афин: «У меня было полно гречанок и турчанок, но полагаю, что и англичанки остались довольны, потому что мы все подхватили одну и ту же болезнь».
12 сентября, когда мысли Байрона были еще полны спасением турецкой девушки, леди Эстер Стэнхоуп, своенравная племянница младшего Питта, прибыла в Афины и несколько дней подряд часто виделась с Байроном. Он чувствовал себя неловко рядом с этой странной неженственной женщиной. В письме к Хобхаусу он делает вывод, что «мне совсем не по душе эта опасная штука – женский ум». Леди была также немилостива с Байроном. «Мне он кажется странным. То он унылый и ни с кем не разговаривает, то дурачится со всеми. То он изображает Дон Кихота, вступая в стычку с властями города из-за женщины, а то воображает себя великим человеком. У него порочная внешность – близко посаженные глаза и нахмуренные брови». Позже Эстер развлекала друзей, изображая причуды Байрона, особенно то, как он торжественно отдавал распоряжения слугам по-новогречески.
То ли чтобы скрыться от этой суровой дамы, то ли по другим причинам, Байрон предпринял вторую поездку в Морею в середине сентября, взяв с собой Николо Жиро и двух слуг-албанцев. Поездка оказалась неудачной. Сначала они были выброшены на остров Саламин, не успев добраться до Коринфа. Потом Байрон подхватил в Олимпии лихорадку, которая задержала его в Патрах: «пять дней в постели с рвотными средствами, хиной и кучей лекарств». Позже он узнал, что обязан жизнью верным албанцам, которые угрожали убить врача, если Байрон не поправится. Наконец 2 октября «природа и Бог» восторжествовали над доктором Романелли. Однако теперь Николо заразился лихорадкой, и Байрон самоотверженно ухаживал за ним. Вернувшись в Афины, он все еще чувствовал себя слабым и изнуренным, но был счастлив, что похудел после болезни, и продолжал соблюдать диету: трижды в неделю ходил в турецкую баню, пил уксус с водой и ел один рис.
Пока Байрон отсутствовал, в Афины приехали несколько весьма любопытных иностранцев. Байрон познакомился с ними, потому что желал вести философские беседы, чего ему так не хватало после отъезда Хобхауса. Его близкими друзьями стали доктор Питер Бронстед, датский археолог, и Якоб Линк, баварский живописец, которого Байрон попросил сделать несколько зарисовок здешних пейзажей.
Байрон всегда предпочитал иностранцев своим соотечественникам. Легче, чем другие англичане, он мог приспособиться к их образу мышления. Он достаточно изучил языки, бытовавшие в Греции, чтобы изъясняться. Со своим слугой Андреасом Цантахи он говорил на дурной латыни, но, когда Андреас ушел, а «болвана Флетчера» отослали домой, Байрон принужден был говорить по-гречески. К тому времени он прилично знал итальянский, который был в большом ходу в Греции, и изучал с наставником новогреческий. Ему также помог «довольно сносный французский и некоторые турецкие проклятия, уместные, когда спотыкается лошадь или попался глупый слуга».
Кроме семей Лусьери и Фовела, которые чувствовали себя в Афинах как дома, Байрон был на короткой ноге с турками и греками, занимающими государственные и церковные должности. 14 ноября он писал Ходжсону: «Позавчера воевода (губернатор Афин) с муфтием Фив (нечто вроде мусульманского епископа) ужинали здесь и по-скотски набросились на сырую баранину, настоятель монастыря напился не хуже меня, так что мой классический пир стал всем известен».
В хорошем настроении Байрон был великолепным компаньоном, но когда начинал размышлять о чем-нибудь, то становился скучным. Он писал Хобхаусу: «…моя жизнь, за исключением нескольких месяцев, сплошная скука. Я повидал цивилизацию – самую древнюю на планете. Я растратил себя по мелочам, вкусил все удовольствия (так и скажи Мэттьюзу); мне больше не на что надеяться, и теперь надо найти достойный способ выпутаться. Если бы я мог отыскать яд Сократа…»
Чтобы разогнать скуку, Байрон задумал поездку в Суний, где снова глядел вдаль с высокого утеса и где белоснежные колонны четко выделялись на фоне синего Эгейского моря и островов[10]. Вернувшись в Афины, Байрон с волнением узнал от греческого моряка, бывшего пленником пиратов-майнотов, что двадцать пять разбойников собирались напасть на их компанию у подножия скалы, но испугались свирепого вида албанцев. Байрон начал вести светскую жизнь. Он обедал с англичанами и «ходил на балы и устраивал разные дурачества с афинянками».
В письме к матери 14 января 1811 года он пытался оправдать себя, во-первых, за то, что отослал Флетчера домой, и, во-вторых, за причины, побудившие его столь долго прожить за границей. Английский слуга давно был для него помехой. «Кроме того, постоянные страдания по говядине и пиву, глупое, нелепое презрение ко всему иностранному и потрясающая неспособность к языкам сделали его, как и любого другого слугу-англичанина, обузой». Байрон заверил мать, что добился успехов в светской жизни: «Я виделся и говорил с французами, итальянцами, немцами, датчанами, греками, турками, армянами. И, оставшись при своем мнении, могу судить о странах и нравах других народов. Когда я вижу превосходство Англии, которое, кстати говоря, сильно преувеличено, я радуюсь, а когда вижу, что она уступает другим странам, то по меньшей мере становлюсь умудренным опытом. Я мог бы сто лет прожить в своей стране, задыхаясь в ее городах или замерзая в деревнях, и не узнать ничего интересного и забавного».