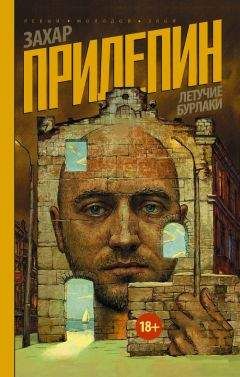Шолохов. Незаконный - Прилепин Захар
Быстрицкая не выдержала и на одной из станций, увидев курящего на перроне Шолохова, выбежала под лёгкий снежок к нему.
Тут и произошёл тот разговор, о которым мы уже вспоминали.
– Михаил Александрович… А вы можете меня познакомить с Аксиньей? Скажите мне, пожалуйста, её адрес – где она живёт. Я расспрошу её обо всём!
Аксинью убило бомбой в 1942-м.
14 февраля начался XX съезд КПСС, на который Шолохов был приглашён в качестве делегата. Его выступление состоялось 20-го.
Осмысленно и спокойно он вернулся к тем тезисам, что вызвали скандал на Втором съезде писателей. Он ни от чего не отказался, ничего не передумал. Разве что Эренбурга не трогал – но только Эренбурга.
Первым делом намекнул на некий «груз» не занятых литературной работой кадров, которые только числились писателями: членство в СП давало тогда многочисленные преференции.
Шолохов констатировал: «В Союзе советских писателей 3247 членов союза и 526 кандидатов, всего 3773 человека, вооружённых перьями и обладающих той или иной степенью литературного мастерства. Как видите, сила на вид немалая, но пусть вас не страшит и не радует эта цифра. Ведь это же только “на вид”, а на деле в значительной части писательский список состоит из “мёртвых душ”. Жаль только, что нет в наше время чичиковых, а то бы Сурков, несмотря на всю его коммерческую неопытность, одной крупной торговой операцией сумел бы нажить для Союза писателей целое состояние».
Руководство Союза уже не раз сигнализировало в ЦК: сотни литераторов в основном еврейского происхождения сконцентрированы в Московском отделении. Утяжеляя Союз, они не приносят никаких зримых творческих результатов. Но вслух об этом говорить никто бы не решился, тем более с трибуны партийного съезда.
«Я обязан сейчас, с глазу на глаз со своей родной партией, говорить о литературе пусть горькую, но правду. Этого требует от меня мой партийный долг, долг моей партийной и писательской совести и чести», – продолжал Шолохов.
«Здесь товарищ Сурков довольно невнятно говорил о достижениях советской литературы последних лет и иллюстрировал это положение нарастающим количеством книг, выпущенных издательством “Советский писатель” в 1953, 1954 и 1955 годах. Знаете, как это по-русски называется? Наводить тень на плетень.
Да разве количеством выпущенных книг измеряется рост литературы? Ему надо было сказать о том, что за последние 20 лет у нас вышло умных, хороших книг наперечёт, а вот серятины хоть отбавляй! На тысячу писательских перьев за двадцать лет по десятку хороших книг. Как вы думаете – не мало ли? Вот о чем надо было сказать Суркову, хотя вы и сами это отлично знаете».
Литература, настаивал Шолохов, живёт за счёт достижений 1920-х и 1930-х годов: «Железного потока» Серафимовича, первых вещей Леонова, Фадеева, прочих.
«В чём же дело? Почему отстает наша литература?» – задавался Шолохов вопросом. И сам отвечал: «Не некоторые, а очень многие писатели давненько уже утратили связь с жизнью и не оторвались от неё, а тихонько отошли в сторону и спокойно пребывают в дремотной и непонятной миросозерцательной бездеятельности. Как ни парадоксально это звучит, но им не о чем писать».
«Общеизвестно, что Лев Толстой знал душу русского мужика, как никто из нас, современных писателей; Горький исходил всю Россию пешком; Лесков исколесил её на почтовых и вольнонаёмных лошадях; Чехов, даже будучи тяжко больным, нашёл в себе силы и, движимый огромной любовью к людям и профессиональной писательской настоящей любознательностью, всё же съездил на Сахалин. А многие из нынешних писателей, в частности многие из москвичей, живут в заколдованном треугольнике: Москва – дача – курорт и опять: курорт – Москва – дача. Да разве же не стыдно так по-пустому тратить жизнь и таланты?!»
«На что мы пошли после смерти Горького? Мы пошли на создание коллективного руководства в Союзе писателей во главе с товарищем Фадеевым, но ничего путёвого из этого не вышло. Общими и дружными усилиями мы похитили у Фадеева пятнадцать лучших творческих лет его жизни, а в результате не имеем ни генсека, ни писателя».
«А вы думаете, если бы во главе руководства стоял, допустим, Шолохов или Симонов, то положение было бы иным? Было бы то же самое. Тех же щей, да пожиже влей. А писатели сказали бы ещё проще: “Хрен редьки не слаще!” Со школьных лет всем известно, что от перестановки слагаемых сумма не меняется».
«После первого съезда советских писателей Горький говорил: “Мы должны выработать целую армию отличных литераторов”. “Должны!” Об этих словах Горького не надо забывать, товарищи делегаты! Вспомните – после смерти Горького в литературных рядах остались такие писатели, как Сергеев-Ценский, Пришвин, Серафимович, Якуб Колас, Гладков, Ольга Форш, Мариэтта Шагинян, Вересаев, Алексей Толстой, Новиков-Прибой, Шишков и другие. Это – из стариков. Позже пришли в литературу остальные, ныне широко известные писатели, но самым молодым из них теперь уже перевалило за пятьдесят. А смена идёт замедленным шагом».
Шолохов настойчиво, упрямо выдавливал номенклатуру. Он видеть уже не мог братов-писателей своего поколения, занявших все позиции, но прекративших развитие, утративших порыв, смелость, дар.
«Дайте развиваться новой литературе!» – взывал Шолохов.
Надо реорганизовать Союз писателей: таков был главный вывод.
Шолохов заботился о государстве и государственности.
Зацементированная культура не могла быть основой для такой сложной конструкции, как русский советский проект.
Те, кого ждал, искал, желал увидеть Шолохов, – уже работали. Он просто не знал ещё их имён. И даже если слышал – не запомнил: никто не осознавал ещё, чего от этой смены можно ждать.
Защитивший в 1951 году кандидатскую диссертацию по творчеству Шолохова, Фёдор Абрамов уже писал свой первый роман «Братья и сёстры». Он будет опубликован в 1958 году.
В 1956-м Юрий Бондарев напишет «Юность командиров», а в 1957-м – «Батальоны просят огня».
В 1956-м выйдет первая книга рассказов Константина Воробьёва. В 1961-м он напишет великую повесть «Убиты под Москвой».
В 1958-м начнёт публиковаться Василий Шукшин.
В 1961-м появятся в печати первые рассказы Валентина Распутина.
Родится феномен лейтенантской и деревенской прозы.
Все названные будут наследовать Шолохову, а также, в неменьшей степени – Леониду Леонову. Считать их своими учителями и наставниками.
Русская тема, русское дело объединят этих людей.
Но вышло так, что наследники, которых Шолохов ждал, чуть задержались и вступили в литературу позже, чем его поколение. У Бондарева первая книга вышла в 29 лет. У Абрамова – в 38 лет. У Воробьёва – в 42 года. У Шукшина – в 34. У Распутина – в 31. У Василия Белова – в 31 год. Первый опубликованный рассказ Бориса Можаева – снова в 31.
Это любопытный момент.
Отчего поколение Шолохова поголовно начинало очень рано – с 17 до 22, а послевоенное – с очень заметной задержкой? Отличие, судя по всему, было в самой атмосфере 1920-х и конца 1940-х.
Одни восприняли большевистскую революцию, как приход коллективного хама, но другие – как всемирное обновление. В литературу хлынуло простонародье.
Во второй половине 1940-х и в начале 1950-х наблюдалась совсем другая ситуация. Пресловутое «отсутствие воздуха», что так сильно ударило тогда по шолоховским сверстникам, странным образом сказалось и на поколении молодых победителей, и на поколении детей войны. Они уже обладали невероятным опытом, но ещё не могли, пользуясь унифицированным, перенасыщенным догмами языком послевоенного времени, найти свою интонацию. Им пришлось дождаться той самой оттепели и в этом смысле её явление – благословенно.
Но, увы, оттепельные годы вынесли на самый верх не только представителей почвеннической литературы. Пришли литераторы и с другими, ещё не сформулированными тогда идеалами – во многом противоположными тому, что исповедовали Шолохов и Леонов.