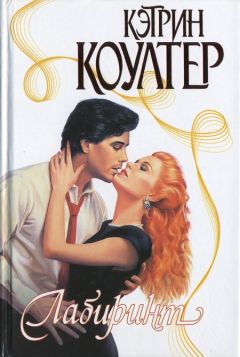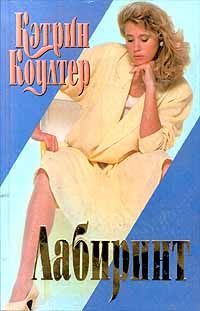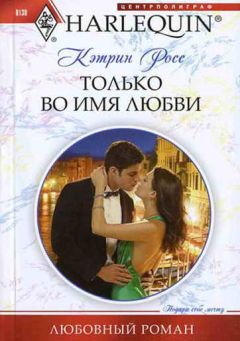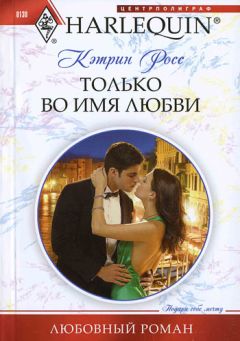Юрий Лебедев - Тургенев
Так в частном письме обнаружились «западнические крайности», которые в речи своей Тургенев непроизвольно сдерживал; здесь он полностью солидарен с теми иностранцами, которые считают отзывчивость Пушкина выражением русской способности к «ассимиляции». Ста-сюлевич в «Вестнике Европы» высказался на этот счет по тургеневской канве прямо и недвусмысленно: «Наша «всечеловечность» была «просто признаком известной ступени развития, стремлением усвоить сделанные ранее другими приобретения; наклонность вживаться в умственную жизнь Европы не была ли следствием умственной бедности нашего собственного быта, бедности, которую столько могущественных причин производили и поддерживали. ...Речь Достоевского была построена на фальши — на фальши, крайне приятной только для раздраженного самолюбия». Если в душе Тургенева теплились патриотические чувства, заставившие его «сомлеть от комплиментов» Достоевского, то стасюлевичи и спасовичи хладнокровно укатывали эти чувства тяжелым западническим катком.
Исход
Тургенев покидал Россию в предчувствии надвигающейся катастрофы. Вскоре до Парижа докатилось грозное известие: 1 марта 1881 года народовольцы убили Александра II. Эта их «победа» обернулась поражением не только народовольческого, но и либерального движения. Восторжествовало то, чего Тургенев более всего опасался, — фанатизм.
Еще 26 февраля Тургенев заявлял К. Д. Кавелину, что пришла пора либералам выступить с совершенно ясной, подробной и обстоятельной программой. Теперь эти планы «упали в воду». «Да, несчастная страна — наша родина, — сетовал Тургенев Анненкову. — А вот еще если и против нового царя вздумают делать попытки — тогда уж точно — как говорится: завязамши глаза, да беги на край света — пока мужицкая петля не затянула твоей цивилизованной глотки. Невольно повторяю за Стасюлевичем: хорошенькое времечко мы переживаем!»
Ровно через два месяца после покушения Тургенев приехал в Россию с надеждой как-то повлиять на ход событий. Но эта надежда оказалась иллюзорной, наивным представилось недавнее горячее желание навсегда вернуться в Россию:
— Я вам расскажу, в каком я здесь положении, только вы, пожалуйста, никому не передавайте, потому что мне, право, стыдно, — делился Тургенев своими переживаниями с народником С. И. Кривенко, навещавшим его тогда в Петербурге. — В Париже были глубоко убеждены, что, как только я сюда приеду, так сейчас же меня позовут для совещаний: «Пожалуйста, Иван Сергеевич, помогите вашей опытностью». И сам я, признаться, тоже разделял надежды, а я сижу здесь дурак дураком целых две недели, и не только меня никуда не зовут, но и ко мне-то никто из влиятельных людей не едет, а те, кто заглядывают, как-то все в сторону больше смотрят и норовят поскорее уехать: «Ничего, мол, неизвестно, ничего мы не знаем». По некоторым ответам и фразам имею даже основание думать, что я здесь неприятен, что лучше мне куда-нибудь уехать. Да я и сам уехал бы с большим удовольствием, если бы только не эта проклятая болезнь. Очень уж тут скучно теперь, а иногда, право, даже страшно бывает: ничего не понимаешь, что творится, каждый что хочет, то и делает, а потом все объясняют недоразумением. Как только мало-мальски поправлюсь, сейчас же уеду в деревню. Но теперь, пожалуй, и в деревне тоже страшно.
— А в деревне-то чего же бояться?
— Как чего? И там, я думаю, тоже сумятица и смута в головах. Знаете, что может быть, — с иронически-грустной улыбкой продолжал Тургенев, — я иногда боюсь, что какой-нибудь шутник возьмет и пришлет в деревню приказ: «Повесить помещика Ивана Тургенева!» И достаточно, и поверьте, придут и исполнят. Придут целою толпою, старики во главе, принесут веревку и скажут: «Ну. милый ты наш, жалко нам тебя, потому ты хороший барин, а ничего не поделаешь, — приказ такой пришел». Какой-нибудь Савельич или Сидорыч, у которого будет веревка в руках, даже, может быть, будет плакать от жалости, а сам веревку станет расправлять и приговаривать: «Ну, кормилец ты наш, давай головушку-то свою, видно, уж судьба твоя такая, коли приказ пришел».
— Ну, уж это вы, Иван Сергеевич, преувеличиваете...
— Нет, право, может быть, может. И веревку помягче сделают, и сучок на дереве получше выберут, — фантазировал Тургенев...
Догадки о том, что его присутствие в Петербурге раздражает правительство, были не напрасными. Уже на другой день после его приезда Победоносцев, которого Александр III сделал своим приближенным, сообщал Я. П. Полонскому: «Вижу по газетам, что Тургенев здесь. Некстати он появился. Вы дружны с ним: что бы вот по дружбе посоветовать ему не оставаться долго ни здесь, ни в Москве, а ехать скорее в деревню... Я применил бы к нему теперь, от лица всех простых и честных людей, слова цыган к Алеко: «Оставь нас, гордый человек».
Так Тургенев и сделал: отправился в последний раз вместе с семьей Я. П. Полонского в благословенное, милое его сердцу Спасское. Лето выдалось холодное, дождливое. «Вот ты тут и живи!» — говаривал Тургенев, поглядывая на небо, с утра обложенное дождливыми тучами. Но когда случались ясные, солнечные дни, хозяин с гостями блуждали по саду. Здесь Тургенева осаждали воспоминания. «То припоминал он о какой-то театральной сцене, еще при жизни отца его сколоченной под деревьями, где в дни его детства разыгрывались разные пьесы, несомненно на французском языке, и где собирались гости; смутно помнил он, как горели плошки, как мелькали разноцветные фонарики и как звучала доморощенная музыка».
То указывал он Полонскому «на то место, по которому крался он на свое первое свидание, в темную-претемную ночь, и подробно, мастерски рассказывая, как он перелезал через канавы, как падал в крапиву, как дрожал как в лихорадке и по меже — «вон по той меже» — пробирался в темную, пустую хату. И это было недалеко от той плотины, где дворовые и мужики, после смерти старика Лутовинова, не раз видели, как прогуливается и охает по ночам тень его».
Тургенев рано ложился спать, но по утрам вставал с восходом солнца и сначала шел в сад кормить хлебом птиц или посидеть у пруда на своей любимой скамейке. «Раз проснулся он до зари, — вспоминал Полонский, — и, как поэт, передавал мне свои впечатления того, что он видел и слышал: какие птицы проснулись раньше, до восхода солнца, какие голоса подавали, как перекликались и как постепенно все эти птичьи напевы сливались в один хор, ни с чем не сравнимый, не передаваемый никакою человеческой музыкой...»
У Тургенева была с природой какая-то своя, утонченная, полумистическая связь. Однажды он рассказывал, как ему показалось, будто все его окружающее — деревья, травы — все силилось говорить ему и не могло, все, казалось, хотело сказать ему что-то и давало как-то ему почувствовать, что оно связано. Перед ним стояла небольшая береза. «Мне показалось, не знаю почему, — продолжал Тургенев, — что она была женского рода; я сказал внутренно: я знаю, что ты женщина, говори; и в ту же минуту один сук березы медленно, как будто с грустью, опустился. Волосы стали у меня дыбом от испуга, и я бежал опрометью».