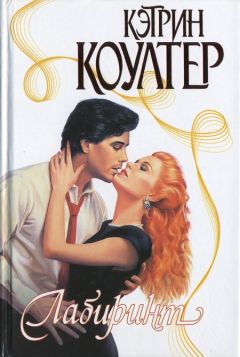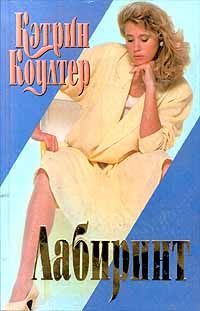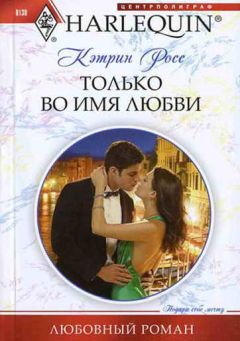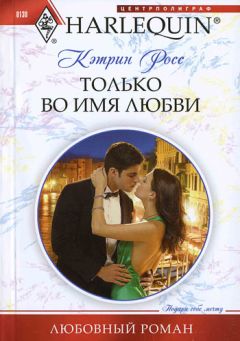Юрий Лебедев - Тургенев
Несогласия с Достоевским возникли даже в кругу славянофилов. В противоположность И. С. Аксакову, А. И. Кошелев в десятом номере «Русской мысли» за 1880 год писал: «Вполне согласны, что Пушкин народный поэт и, прибавим — первой степени, но что отзывчивость составляет главнейшую особенность нашей народности — это, кажется нам, неверно; и мы глубоко убеждены, что не это свойство утвердило за Пушкиным достоинство народного поэта... Не могу также согласиться со следующим мнением господина Достоевского: «Что такое сила духа русской народности, как не стремление ее, в конечных целях своих, ко всемирности и всечело-вечности?» Думаем, что это стремление также вовсе не составляет отличительной черты характера русского народа. Все народы, все люди более или менее, с сознанием или без сознания, стремятся осуществить идею человека — это задача каждого из нас. До сих пор с сознанием мы менее других ее исполняем или даже стремимся к ее исполнению».
Г. И. Успенский так объяснял причину необыкновенного успеха речи Достоевского в кругах революционно настроенной народнической молодежи: «Как же было не приветствовать господина Достоевского, который в первый раз, в течение трех десятков лет с глубочайшею (как кажется) искренностью решился сказать всем исстрадавшимся в эти трудные годы — «Ваше неуменье успокоиться в личном счастье, ваше горе и тоска о несчастье других и, следовательно, ваша работа, как бы несовершенна она ни была, на пользу всеобщего благополучия — есть предопределенная всей нашей природой задача, лежащая в сокровенных основах нашей национальности». «Конечно, молодежь, делавшая овации Достоевскому, — писал П. Л. Лавров, — брала из его речи не то, что он действительно говорил, а то, что соответствовало ее стремлениям. Не христианское прощение зла, наносимого братьям, читала она в туманных словах нервного оратора, <...> а солидарность в борьбе за право на лучшую будущность для всех обездоленных братьев против их эксплуататоров всех наций. Она готова была смириться перед народом, <...> жертвуя ему своими интересами, своим благополучием, своею жизнью, но перед народом, в пробуждающемся сознании которого она читала ненависть к его вековым притеснителям, перед народом, который, в стремлении к правде умственной и нравственной, «принял бы в свою суть» уже не Христа, смиренно переносящего заушения, а Христа, воскресшего из могилы невежества и бессознательности, Христа, являющегося справедливым и грозным судьею».
Тургенев тоже не случайно поддался общему эмоциональному порыву. Было в речи Достоевского что-то родственное его собственным взглядам на Пушкина и на русскую жизнь. Во-первых, обе речи — и Тургенева, и Достоевского — восходили к общему источнику, к оценке пушкинского гения Белинским и Гоголем. Ведь именно Белинский впервые назвал Пушкина Протеем, гением, способным легко и свободно перевоплощаться в культуры других наций. На эту особенность Пушкина обращал внимание и Гоголь: «И как верен его отклик, как чутко его ухо! Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греком — грек, на Кавказе — вольный горец, в полном смысле этого слова; с отжившим человеком он дышит стариной времени минувшего; заглянет к мужику в избу — он русский с головы до ног». Белинский же приближался к мысли о пророческой сути пушкинской переимчивости. В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» он писал: «Не любя гаданий и мечтаний и пуще всего боясь произвольных, личных выводов, мы не утверждаем за непреложное, что русскому народу предназначено выразить в своей национальности наиболее богатое и многостороннее содержание и что в этом заключается причина его удивительной способности воспринимать и усваивать себе все чуждое ему; но смеем думать, что подобная мысль, как предположение, высказываемое без самохвальства и фанатизма, не лишена основания».
Во-вторых, признание Достоевским высокого трагического смысла за «русским скитальцем» не могло не польстить Тургеневу, автору «Рудина», где тема бесприютного скитальчества поднимается на большую нравственную высоту. Лежнев неспроста говорит Рудину: «Ты назвал себя Вечным Жидом... А почему ты знаешь, может быть, <...> ты исполняешь этим высшее, для тебя самого неизвестное назначение: народная мудрость гласит недаром, что все мы под Богом ходим».
Наконец, когда Достоевский, рассуждая о пушкинской Татьяне, сказал, что этот тип русской женщины не повторялся впоследствии, кроме, может быть, тургеневской Лизы, — в зале раздались овации и крики, а Тургенев послал Достоевскому воздушный поцелуй...
Но какую-то неудовлетворенность оставила в душе Тургенева и эта речь, и этот чрезмерный энтузиазм, и эти женщины, бросившиеся с венком к Достоевскому и потеснившие Тургенева со словами: «Не вам! Не вам!» И уже 13 июня Тургенев написал из Спасского письмо редактору журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевичу: «Не знаю, кто у вас в «Вестнике Европы» будет писать о Пушкинских праздниках, но не мешало бы заметить ему следующее: и в речи Ив. Аксакова, и во всех газетах сказано, что лично я совершенно покорился речи Достоевского и вполне ее одобряю. Но это не так — и я еще не закричал: «Ты победил, галилеянин!» Эта очень умная, блестящая и хитро-искусная, при всей страстности, речь всецело покоится на фальши, но фальши, крайне приятной для русского самолюбия. Алеко Пушкина чисто байроновская фигура — а вовсе не тип современного русского скитальца; характеристика Татьяны очень тонка — но неужели же одни русские жены пребывают верны своим старым друзьям? А главное: «Мы скажем последние слова Европе, мы ее ей же подарим — потому что Пушкин гениально воссоздал Шекспира, Гёте и пр.»? Но ведь он их воссоздал, а не создал — и мы точно так же не создадим новую Европу — как он не создал Шекспира и др. И к чему этот всечеловек, которому так неистово хлопала публика? Да быть им вовсе и не желательно: лучше быть оригинальным русским человеком, чем этим безличным всечеловеком. Опять все та же гордыня под личиною смирения. Может быть, европейцам оттого и труднее та ассимиляция, которую возводят в какое-то гениальное всемирное творчество, что они оригинальнее нас. Но понятно, что публика сомлела от этих комплиментов, да и речь была действительно замечательная по красивости и такту. Мне кажется, нечто в этом роде следует высказать. Господа славянофилы нас еще не проглотили».
Так в частном письме обнаружились «западнические крайности», которые в речи своей Тургенев непроизвольно сдерживал; здесь он полностью солидарен с теми иностранцами, которые считают отзывчивость Пушкина выражением русской способности к «ассимиляции». Ста-сюлевич в «Вестнике Европы» высказался на этот счет по тургеневской канве прямо и недвусмысленно: «Наша «всечеловечность» была «просто признаком известной ступени развития, стремлением усвоить сделанные ранее другими приобретения; наклонность вживаться в умственную жизнь Европы не была ли следствием умственной бедности нашего собственного быта, бедности, которую столько могущественных причин производили и поддерживали. ...Речь Достоевского была построена на фальши — на фальши, крайне приятной только для раздраженного самолюбия». Если в душе Тургенева теплились патриотические чувства, заставившие его «сомлеть от комплиментов» Достоевского, то стасюлевичи и спасовичи хладнокровно укатывали эти чувства тяжелым западническим катком.