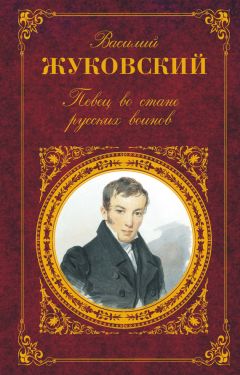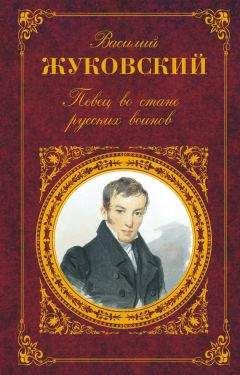Илья Виницкий - Дом толкователя
Ину притчу глагола им: подобно есть Царствие Небесное квасу, егоже вземши жена скры в сатех трех муки, дондеже вкисоша вся.
Ср. у Жуковского: «…зернышки стали мукою; // Вот молочка надоила от пестрой коровки родная // Полный горшочек; сварила кисель, чтоб детушкам кушать…»
Вообще жанр притчи (христианской загадки-поучения) очень важен для поэтических поисков Жуковского второй половины 1810-х годов, направленных, как мы полагаем, на создание принципиально новой системы отношений между автором, произведением и читателем. Христос, по Марку, говорил притчами для простых людей, которые еще не были готовы осмыслить слово Божие. Значение притчи должны были понять Его ученики, то есть немногие избранные (у Марка даже они не смогли этого сделать). Иначе говоря, парадокс этого жанра в том, что, будучи простым по языку и фабуле, он оказывается глубоким и до конца не познаваемым по своему тайному смыслу (Царство Божие). Думается, многопланность притчи, предполагающая разные степени интерпретаторской компетентности, и была особенно привлекательна для Жуковского.
Простонародность, безыскусность, наивность и символичность гебелевского рассказа были осмыслены русским поэтом как черты истинно христианской поэзии, наиболее ярко представленной в притчах Иисуса (то есть в «аутентичном» послании Спасителя). «Овсяный кисель» Жуковского явился опытом создания подобной поэзии — христианской не по сюжету и персонажам, но по внутренней форме и ожидаемому воздействию на слушателя. Поэт выступает здесь как проповедник, его стихотворение — как сладкое и душеполезное слово, а история о зерне — как притча-загадка, адресованная читателям.
Разгадать загадку не так-то просто, ведь история зерна раскрывается в разных контекстах по-разному, она органически (динамически) полисемична. На самом обыденном, профанном, уровне можно удовлетвориться аналогией, приведенной рассказчиком: жизнь колоска — жизнь человека. В аллюзионном плане эта история может быть прочитана как шутливое преломление литературных споров об органических формах стиха, как нравственная проповедь, доступная простым людям, или выражение благодарности августейшей попечительнице крестьян, сирых и литераторов. В романтическом истолковании под историей растения можно понимать поэтическое произведение, «новый жанр», — живое слово самого поэта. Наконец, на религиозно-символическом уровне прочтения растущий колос — это и слово Божие, которое проникает в души детей, и Царство Божие, которое наследуют, по словам Христа, дети, и душа человека, созревающая для смерти-жатвы и другой жизни.
Последняя интерпретация позволяет, в частности, объяснить одно странное противоречие в тексте идиллии. Речь идет об удивительной (à la граф Хвостов!) перемене пола «героя» стихотворения овсяного зернышка: до наступления весны о нем говорится исключительно в мужском роде («долго он… спит», «вот он лежит в борозде», «выглянул он из земли», «как же он зябнет…» и т. д.), после — исключительно в женском («наша былиночка», «листки распустила», «молодая», «пополнела»). Очевидно, эта перемена связана с тем, что во второй части говорится о пробуждении и цветении души:
Наша былинка стоит, как невеста в уборе венчальном…
Смотришь, слетаются мошки, жучки молодую поздравить,
Пляшут, толкутся кругом, припевают ей: «многие лета».
Символический образ невесты переводит историю о зерне в историю о душе, ожидающей своего жениха (заметим, что мистический брак — сюжет баллады «Вадим», которую поэт читал на том же заседании «Арзамаса»).
История былиночки-души есть история ее испытаний (холод и голод зимой), сомнений и искушений (маловерие, уныние). Но Господь всегда приходит ей на помощь и посылает пищу и тепло. Зернышко полностью предано Его воле. Можно сказать, что история колоса есть поэтическая иллюстрация молитвы «Отче наш», которую дети читают в самом начале стихотворения и мотивы которой пронизывают текст идиллии: «Господь Бог ангела шлет к нему с неба: „дай росинку ему и скажи от Создателя: здравствуй“»; «…и вам доведется // Вчуже, меж злыми, чужими людьми, с трудом добывая // Хлеб свой насущный…». Ср. также с мотивами идиллии (цветение колоса, его маловерие зимой) стихи из Евангелия от Матфея, разъясняющие «Отче наш»: «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них» (Мф. 6, 28–29); «Итак не заботьтесь и не говорите: „что нам есть?“ или „что пить?“ или: „во что одеваться?“» (Мф. 6, 31). Идиллию о зернышке можно прочитать и как произведение о непосредственной и чистой вере, которую пиетист Жуковский понимал как полное вручение себя воле Создателя. Начинающееся с предобеденной молитвы стихотворение заканчивается благодарностью Господу за пищу: «Детушки скушали, ложки обтерли, сказали: „спасибо“».
Итак, традиционно идиллические темы покоя, органического роста, еды, труда, детей, солнца, урожая и смерти преображаются Жуковским в религиозные символы. Эта попытка создания религиозной идиллии легко вписывается в современный поэту идеологический контекст. Вторая половина 1810-х — начало 1820-х годов в России — это не только эпоха бурной полемики о художественном слове и русской идиллии, время расцвета «придворной эстетики» и первых успехов русского романтизма, но и период активной деятельности русского Библейского общества по распространению Слова Божия (то есть переводов Евангелия) среди народов Российской империи на национальных языках. Как известно, император Александр принимал самое живое участие в деятельности Общества ив 1816 году инициировал перевод Евангелия на русский язык. По словам президента Библейского общества, император «сам снимает печать невразумительного наречия, заграждавшую доныне от многих из Россиян евангелие Иисусово, и открывает сию книгу для самых младенцев народа, от которых не ее назначение, но единственно мрак времен закрыл оную» (Пыпин: 56; ср. с «младенцами народа» детей в идиллии Жуковского). Общедоступность Библии не означала профанацию сакрального текста: «Осознававшийся как многоуровневый, текст Библии <…> мог нести совершенно различную информацию для различных в своей „посвященности“ читателей и раскрываться им постепенно — в соответствии с их духовным ростом» (Курилкин: 44).
Образы из притч Иисуса о зерне и закваске часто встречаются в религиозно-мистической литературе эпохи. Нередко они сопровождаются эсхатологическими мотивами (урожай, жатва). Так, в «Тоске по отчизне» Юнга-Штиллинга о близких временах говорится: «Воскисает и иный таковый же благотворный квас. Да распространит Сеяй огнем паче и паче свое сеяние! Молите Господина жатвы, да изведет делатели на жатву свою» (Штиллинг 1817–1818: V, 245–246). Заметим, что эсхатологические ожидания коснулись в этот период и Жуковского (см. следующую главу о балладе «Вадим»).