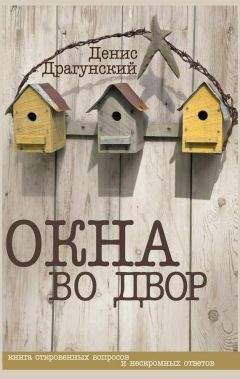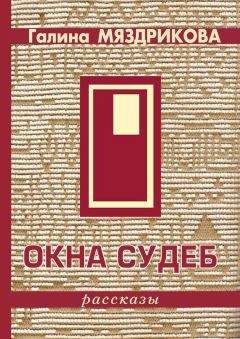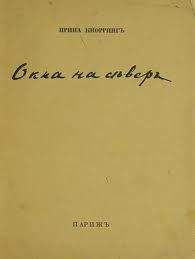Эмиль Кардин - Минута пробужденья (Повесть об Александре Бестужеве (Марлинском))
Во «Взгляде на старую и новую словесность в России» Бестужев поставил Вяземского следом за Пушкиным:
«Остроумный князь Вяземский щедро сыплет сравнения и насмешки. Почти каждый стих его может служить пословицею, ибо каждый заключает в себе мысль. Он творит новые, облагораживает народные слова и любит блистать неожиданностью выражений. Имея взгляд беглый и соображательный, он верно ценит произведения разума, научает шутками и одевает свои суждения приманчивою светскостию и блестками ума просвещенного. Многие из мелких его сочинений сверкают чувством, все скреплены печатью таланта, несмотря на неровное, инде, падение звуков и длину периодов в прозе. Его упрекают в расточительности острот, не оставляющих даже теней в картине, но это происходит не от желания блистать умом, но от избытка оного».
Не просто фимиам и не только защита; солидарность, одобрение «мелких сочинений» — эпиграмм, ходивших в свете. Сам Бестужев, как из рога изобилия, сыпал сравнениями и насмешками, добивался неожиданности сюжетов, оборотов, слов.
Пушкин, уловив их близость, еще 13 июня 1823 года писал Бестужеву:
«…Признаюсь, что ни с кем мне так не хочется спорить, как с тобою да с Вяземским — вы одни можете разгорячить меня».
«Первый консул» сближал их имена. Александру Бестужеву грезился московский союз: Бестужев — Вяземский. Наподобие петербургского: Бестужев — Рылеев.
Редкие отклики понуждали его столь серьезно задумываться над своими «Взглядами на русскую словесность…», как дружеские послания Вяземского. Петр Андреевич был пугающе, радующе непримирим.
«В вашей литературной статье много хорошего, но опять та же выисканность и какая-то аффектация в выражениях. Вы не свободны и подчиняете себя побочным условиям, околичностям. Кому же не быть независимым, как не нам, которые пишут из побуждений благородного честолюбия, бескорыстной потребности души? Достоинство писателя у нас упадает с каждым днем и если новому числу избранных не поддержать его, то литература сделается какою-то казенною службою, полицейским штатом или и того хуже — каким-то отделением министерства просвещения… Независимость — вот власть, которой должны мы служить верой и правдой. Без нее нет писателю спасения: и ум, и сердце его, и чернила — все без нее заплесневеет».
Глубже узнавая князя Петра Андреевича (переписка длилась), Бестужев сильнее к нему тянулся, все выше ценил его. К двадцать пятому году, к московской поездке, Бестужев не мыслил себе общества без участия Вяземского. Уже видел счастливую сцену, братские объятия, венчающие вступление растроганного князя в заговор.
Разногласия? Не беда.
Подобно большинству членов общества, Бестужев неистовствовал от одних только слухов о присоединении к Польше белорусских и украинских губерний, его патриотизм был уязвлен полонофильскими речами Александра, флиртом Константина со шляхтой; остзейское засилье при дворе вызывало неприязнь к немцам, всему немецкому.
Петр Андреевич, многомудро улыбаясь, давал Бестужеву выплеснуться. Улыбка обращалась в откровенно презрительную, когда сам он говорил об Александре и Константине; и малейших иллюзий господствующий правопорядок у него не порождал. Но Польша должна быть сама по себе. Антипатию к немцам отвергал; не в них корень зла. В девятнадцатом просвещенном веке такие взгляды не внушают уважения…
Пусть бы и оставался при своих мнениях. Надобно согласие в краеугольном — необходимость общества, необходимость — Бестужев повторял Рылеева — «D'en finir avec ce gouvernement»[14]
Эту филиппику Вяземский обрывал с категоризмом, неожиданным для него, вальяжно-ироничного секунду назад. Он против заговоров, тайных клятв, конспиративных совещаний.
Князю ли, умнице, не видеть: иначе, как тайным, обществу не бывать, правительство осетило Россию шпионами.
От подобных обществ — в России, в другом крае — вред, пагуба.
Ретируясь, Бестужев давал понять: имеются весьма влиятельные лица, кои не состоят в заговоре, но поддерживают связь, в нужное время выступят на политическую сцену, сыграют главные роли. Комедь, отмахивался Вяземский, комедь, да и только — сцена, роли…
Бестужев бил последним козырем: тайное общество тоже действует в видах закона.
Вяземский откликнулся обидным смехом: зачем тайности, ежели закон? Наш закон — что дышло, в отчаянных руках разнесет все окрест…
Бестужев догадывался: некоторые могут сторониться тайного общества, даже не вдаваясь в причины его и цели. Барон Штейнгель не удержался от презрительной гримасы, когда упомянули масонов.
— Вы, Владимир Иванович, не почитаете, кажется, масонство? Чем они вам не угодили?
— Я человек религиозный, в бога и святую троицу верую.
— Не всякий масон — безбожник. Тайные братства и государь поддерживал…
В бессонных размышлениях, как и в своих прожектерских трактатах, Штейнгель пытался объять все стороны бытия. Масонская тяга к мистическому ритуалу не мирилась с его рассудочностью.
— В тайном обществе, доверяюсь вам, Александр Александрович, что в гнилом болоте: какая-нибудь гадость заведется. Без солнца всякая нечисть лезет.
— И на солнце цветет пышным цветом. Против нее и объединились.
Штейнгель сожалел о начатой теме. Не понять Бестужеву страха, отвращения перед уличным мятежом, к которому ведет тайный комплот. Его неприятие бунта и неприятие самовластия имели один исток. Бунт и самовластие не дорожат личностью. Отсюда все пагубы — беззащитность, безответность и безответственность личности. Произвол власти в глазах Штейнгеля не слишком разнился от произвола взбунтовавшейся толпы. Еще в 1817 году он советовал «оградить лучшими мерами» «взятие под стражу гражданина»; «в чужих краях взятие под стражу бывает непременно при 12 человеках присяжных — не худо бы и здесь…».
Ставка на надежный правопорядок, сильную власть, приверженную законам, подвигла его вступить в тайное общество. Оно отвергало тиранический строй, державшийся на всесилии малой кучки и полном бесправии подданных. Штейнгель критиковал выдвинутый Муравьевым имущественный ценз. («Почему богатство только определяет достоинство правителей? Это несогласно с законами нравственными», имущественный ценз — гибельный соблазн для гражданской добродетели…) Он готов был стать заговорщиком, уповая на благоразумие товарищей по тайному обществу. Но горестно обнаруживал: благоразумия хватает не всем, горячие головы вожделеют перемен куда более радикальных, чем реформатор Штейнгель. Барона настораживали и якобинские крайности Пестеля, и уклончивость Трубецкого. (Если и смел упрекнуть Трубецкого — не более как в уклончивости, соглашаясь, однако: диктатору не пристало быть рубахой-парнем.)